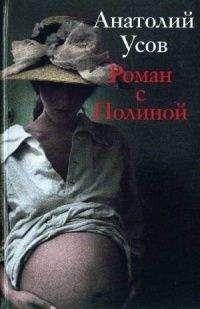Но я тоже не последний лох, начитался мемуарной литературы и знал, что в поиске проигрывает тот, кто выдает себя. Моя позиция была удобной, я был в тени, внизу, и я ждал.
И я дождался, я неслышно поднялся и двинул рукояткой «калаша» в куцый затылок.
— Серый… — окликнул его тот, кто был в это перемещение на стреме, — Серый…
Я клацнул затвором, этот звук в темноте и тиши прозвучал внушительно.
— Лежать, сука, — сказал я тяжелым шепотом, — мордой в пол… стреляю на поражение.
— Все, крутой, твоя хаза, сдаемся, — уткнувшись лицом в пол, глухо ответил голос.
— Двадцать минут лежать, морду не поднимать, шевельнешься — пристрелю на х…
— Господин, ты убил его? — вежливо прогундел голос.
— Вырубил. Но если хоть одна б… вякнет, что видела меня здесь, на ремни порежу, — сказал я, удивляясь, откуда во мне берутся такие слова.
— Господин, было темно, мы не разглядели тебя… мы только видели силуэт, ты невысокого роста, широкоплечий и сильно накаченный.
— Ответ правильный. — Я был худой, длинный и почти без мускулатуры.
Я завернул все три автомата в один пакет и через чердак и пожарную лестницу вылез на улицу.
«Семерка» стояла на месте, и все было тип-топ, кроме того что я сделал шаг туда, куда вообще не следует никому ходить.
Я лежал спиной на крыше двенадцатиэтажного дома, смотрел, как бегут облака, у меня кружилась от них голова, и казалось, что я сейчас упаду с них.
И мне опять чудилось, что я только что откуда-то прилетел и радость, исходящая в этот мир от встречавших меня, переполняет его. Я вплывал в это чудо, ожидая увидеть ту, которая ждала меня и ради которой я совершал все, потому что это была любовь. Я думал об этом и чувствовал, еще немного, и я сумею понять, что не понимает и не знает никто на Земле, мне надо только встать, подойти к краю и полететь.
Я встал и подошел к краю крыши. Какая-то внутренняя суета вьюгой поднялась во мне и не давала шагнуть вниз. У детского садика, увидев меня на краю, кто-то в ужасе закричал.
…Опять я почему-то лежал на прежнем месте, и внутренняя суета, как блестки фольги вокруг летательного аппарата, мешала моему радару ухватить то, что, может быть, знают все, но не знаю я…
С юго-востока на Москву шла гроза. Темной многокилометровой стеной ползла туча. Она покрывала под собой все пространство Москвы. Маленькие тучки, как шестерки к пахану, мчались к ней с донесениями. Коротенькие игривые молнии поминутно вспыхивали в разных местах ее. И хотя не было еще дождя, огромная радуга, как двухцветная арка, украсила тучу от одного края горизонта и до другого, доставая цветной вершиной до самого края неба. При виде всего этого великолепия хотелось встать на колени, плакать и раскаиваться в слезах.
— Мама! Смотри, радуга! Мамочка!.. Мама!..
От пруда бежал за мамой пятилетний мальчик и захлебывался от счастья. И столько было радости в его тоненьком звонком голосе, что я на самом деле заплакал, вдруг ощутив с невыносимой силой, как чуден и прекрасен мир, вспомнив, что и я был таким же маленьким и таким же счастливым… и что все это уже ушло и никогда-никогда не вернется. Но все-таки было же, было!..
В ожидании дождя седой пенсионер бросал оранжевый мячик серебристому веселому пуделю. Я приложился к прицелу и повел стволом, пытаясь поймать мячик в прицел. Это оказалось трудным занятием. Зато я увидел в прицел смотровую площадку на Воробьевых горах и продавцов сувениров, спешно собирающих перед дождем свои побрякушки. Боже мой, ведь это те самые горы, оттуда Воланд унес Мастера и Маргариту. Как повезло этому мужику. Кажется, он был тоже историком.
Будет ли у меня когда-нибудь Маргарита? Полина, ты моя Маргарита, почему ты не хочешь бросить все ради меня и придти ко мне в мой убогий подвал? Будет ли когда-то кто-нибудь так любить меня?.. Или хотя бы как-нибудь, но любить… Боже мой, как тоскливо и плохо жить без любви… Воланд, почему ты так давно не был в Москве? Почему бы тебе снова не явиться сюда, не навести шухеру и веселья?
Так прошла первая ночь, никто не приехал за мной.
Они приехали только на четвертые сутки. Каждую ночь я лежал на крыше. А днем отсыпался. Я почему-то знал, что это обязательно будет. И обязательно ночью. И я не хотел больше мочиться от страха.
Было холодно, сыро, я вспоминал, как мне доставалось от мамы за то, что я такой лопух, всем все раздаю, не умею постоять за себя. Я переживал последний удар, это было в деревне, она, кажется, называлась Саврасово, папа с мамой работали в школе, я учился еще в первом классе. После школы я зашел к товарищу посмотреть котят. Один, беленький, был очень больной. Он постоянно пищал, у него были жалобные голубые глаза. Товарищ сказал, если он будет еще так пищать, бабка утопит его в ведре.
Котенок пищал всю дорогу, пока я нес его за пазухой и в расстегнутый ворот целовал печальную голубоглазую мордочку. Я знал, что мама встретит его без радости, она почему-то не любила животных, говорила, самим не выжить.
Как я ни плакал, как ни просил — ничего мне не помогло. Когда он попил молока и его тут же вырвало и пропоносило, мама выгнала меня с ним из дома.
Я помню, уже темнело и моросил дождь, я скользил сандалиями по осенней грязи, бредя на хутор. Почему туда? Я знаю почему, потому что я замыслил предательство, и как маленький, но уже вполне сознательный негодяй, хотел больше никогда не видеть того, кого предаю. Правда, на хуторе был большой и красивый дом, и мне казалось, там живут такие же большие, красивые и добрые люди, у которых найдется место котенку.
Я не мог даже просто оставить его, мне казалось, он побежит вдогонку. Я зажмурился и бросил его в какие-то кусты у дома и кинулся наутек.
Когда и где я упал, я не помню. Я очнулся в больнице. Уже выпал снег. Больше я никогда никого не приносил в дом. И кажется по-настоящему уже не жалел никого.
Я услышал звук подъезжающего автомобиля и пришел в себя. Была ночь. Видимо, прошел сильный дождь, все вокруг было сыро, он и сейчас моросил. Я был насквозь мокрый и так замерз, что дрожал. С Улофа Пальме на мою улицу выворачивала «девятка» с затененными стеклами.
Мне сделалось жарко. Я подтянул к себе свой «калаш», протер носовым руки и зачем-то потрогал глушитель. Внизу, у подъезда, из «девятки» вылез плечистый, почти квадратный, мужик. Поблескивая под фонарем бритой наголо головой, он задрал ее, пытаясь угадать по окнам, где находится моя сто восемнадцатая квартира. Я подумал, значит, у них есть компьютер и ментовская база данных, если они сумели пробить меня.
Пока я занимался платком и дыханием — оно у меня было прерывистым, все-таки я здорово волновался, — один из них успел подойти к подъезду.
— У них код, — сказал он оттуда. — Ломать?
— Попробуй набрать по квартире, — посоветовал громила, вынимая из салона здоровенный предмет, я подумал, где же видел такой? Вспомнил, американцы играют такими в свой американский футбол, называется бита, бейсбольная бита.
Я заставил себя порадоваться, что у меня такая прекрасная память, что я вообще молоток и могу овладеть любой ситуацией, так, кажется, учил психолог Леви тех, кто навсегда хочет встать на путь побед и удач. Мое дыхание на самом деле стало приходить в норму. Великая вещь психика, подумал я, тот, кто владеет собой, на самом деле может овладеть всем.
— Я набрал, — сказал тот, от двери. — Мертво.
— Ща долбану, — сказал громила, пошевелил плечищами и пошел к подъезду.
— Да набери еще раз, — скандальным неприязненным голосом сказал тот, кто оставался в машине, — сто восемнадцать, этот мудила мог перепутать.
«Сто восемнадцать», ошибки нет, это ко мне, я поставил флажок на одиночную стрельбу и передвинул затвор. Скажу честно, стрелял я только во сне. После девятого класса нас вывозил военрук под Нарофоминск, в военные лагеря, но был уже Горбачев, он целыми днями ботал о новом мышлении, и пострелять нам не дали.
— Кто «мудила»? — спросил тот от двери.
— Ты, Игорек. Самый реальный беспонтовый чел. Лошара. Сколько терли, бросай зажигалово, а тебе одно — дискачи, пивчаро, прибарыжить шушеру.
Скажу честно, я не хотел никого убивать. Я даже был готов, чтобы убили меня, так мне надоела моя дурацкая жизнь, в которой я не видел никакого просвета — ни впереди, ни сзади. Поэтому я хотел, чтобы все было совсем по-честному, я помолился на церковь, которую хорошо видел с крыши, и сказал, Господи, ты сам все видишь и знаешь, как должно быть… если ты хочешь, чтобы я убил их, пусть будет так, они гады, зачем лишним гадам жить на земле? Если ты хочешь, пусть я буду рукою твоею. Мне подумалось — «огненным мечом твоим», но я решил, это слишком… это для Архангела Михаила, кажется, архистратига, так вроде зовут его. Но если Ты хочешь, чтобы не стало меня, я готов к этому. Направляй ствол мой. И направляй ствол их. Я опять разволновался и потерял дыхание. Однако приложился к мокрой холодной стали и нажал спусковую скобу. Я не ожидал, что у этой машинки такая отдача, и почему-то стреляла она не один раз, а несколько раз по три.