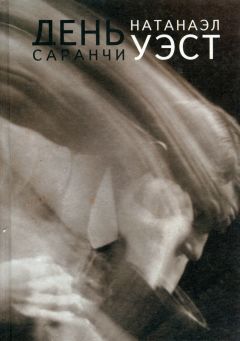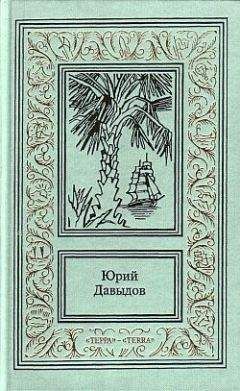И ладно бы просто сожрала, я бы может поскрипел бы день-другой зубами и простил. Но она ещё и насрала в пустую коробку, что, безусловно, было оскорблением. Циничным и обдуманным.
Я пошел к почтальону Андрюхе и мрачно сказал: «Нужно замочить крысу. Она меня оскорбила».
У Андрюхи как раз сидели какие-то его земляки, и все страшно обрадовались такой идее. Положили кусок сала посреди посылочной комнаты, выключили свет и притихли. Когда крыса зашуршала, свет включили, перекрыли ей все пути к спасению и стали счастливо пинать её сапогами. «Э, э, — возмутился я. — Нахуя мучить-то?» Но меня уже не слышали — азарт называется.
Тогда я взял в углу тяжёлую железяку, вышел в центр и одним ударом эту крысу убил. Мягкий такой, тупой звук, вроде как молотком по валенку. И ушёл.
«Ты чего?» — растерянно спросил меня в спину почтальон Андрюха.
А ничего. Хуйня всё.
Деревня. октябрь. мусор
Соседку нашу я немного побаиваюсь.
Однажды ввечеру я вяло палил на заднем дворе бесконечный хлам из разваленного сарая. Шёл мелкий дождь, хлам был весь мокрый и гореть решительно отказывался даже вместе с бензином. На зловонный дым пришла соседка.
«Палиш?» — спросила тётя Рая с сочувствием. «Палю, — признался я. — Не горит». «От же Лилька блядь! (Это про бывшую хозяйку нашего дома.) Чево людям оставила! Ташши бумажину». «Да вот же, — говорю, — бензин». «Да ябать твой бянзин, бумажину ташши!»
Притащил бумажину. Спички в руках соседки загорались сами и не гасли на ветру. Дым повалил значительно гуще. Начал разгораться еле живой огонь. Соседка тут же завалила его какими-то гнилыми тулупами. В глазах её сверкнуло что-то нездешнее. «Згарыть! — сказала она убеждённо. — Усё згарыть!»
Полил совсем уже нестерпимый дождь, стало темно, соседка ушла домой, и я тоже ушёл в избу.
Проснулся утром: всё тот же дождь. Выглянул в огород — горит.
На третий день погасло, когда сгорело всё.
Двадцать грамм. музыка для экзальтированных старцев
Вова Седалищев был ленинградский якут. Доармейская его судьба была никому не известна: Вова был немногословен. То есть более двух слов подряд от него никто никогда не слышал. У Вовы было совершенно плоское лицо и крошечные глаза. За всё время службы он не только ни разу ни с кем не подрался, но даже ни с кем и не поссорился, хотя в армии это совершенно невозможно. Всё каким-то волшебным образом проходило мимо него, никак его не задевая.
Жил Вова в кинобудке, она же почта, исправляя обязанности, соответственно, киномеханика и почтальона. Кроме того, в обязанности Вовы входило своевременное включение марша во время утреннего, дневного и вечернего разводов. То есть должность его была полнейшей синекурой: отыграв утренний марш, Вова отправлялся на машине за почтой, после обеденного марша разносил эту почту по ротам, а после вечернего развода выдавал военным строителям посылки с родины.
По субботам и воскресеньям Вова крутил кино, какое случалось ему обнаружить в пыльных армейских фильмохранилищах. Чаще всего это был кинофильм «Мы из джаза». Военные строители любили этот фильм за присутствие в нём артистки Цыплаковой — тогдашнего универсального секс-символа. Когда артистка, изящно облокотившись о рояль, пела «когда этих клавиш коснётся рука…», военные строители все как один восклицали: «Эх, блядь, заправить бы ей!» Такова она — волшебная сила искусства.
В свободное время Вова участвовал в армейском вокально-инструментальном ансамбле под названием «Стремление» (ударник, ритм, соло и бас — ионика не полагалась по смете). Вова играл на соло-гитаре и относился к этому с душой. Он прикладывал к струнам негодные радиолампы и другие какие-то предметы и извлекал из нехитрого инструмента заунывнейшие звуки — видимо, сказывалась память предков.
Ансамбль в то время играл песни собственного изготовления: музыку сочинял Вова, а стихи производил Андрюха из удмуртского города Сарапул. Стихи были что-то вроде «Плесецкий космодром — не только пуск ракет! Ракета — это сердце, взлетевшее ввысь!» Ну и так далее.
Вечерами, правда, Андрюха пел за кружкой чифиря совсем другие песни — в стилистике популярного в то время нытья: мол, и друг мне — не друг, и я — вроде как не я, и если ты попался мне навстречу, то, значит, нам с тобой не по пути. Такие унылые настроения считались тогда большой антисоветчиной и были чрезвычайно популярны среди молодёжи.
Выступления ансамбля большим успехом среди личного состава не пользовались: личный состав обычно сразу же засыпал под тоскливые Вовины модуляции, но Вову, как руководителя ансамбля, это ничуть не беспокоило: он прикрывал свои и без того прикрытые глаза и, раскачиваясь, уходил далеко-далеко, видимо, в родную и никогда не виданную якутскую тайгу.
Так бы оно и продолжалось, но однажды нашу отдалённую часть посетил культурный начальник из города Мирный — молодой и прогрессивный капитан.
В честь него был дан концерт: выступил представитель какого-то редкого афганского племени по фамилии Мамедов (в ведомостях он, кажется, числился как пенджабец), знаменитый тем, что умел петь индийским женским голосом, затем недоучившийся оперный бас Арутюнян с арией Дон-Кихота, потом простучали на тазах и кастрюлях лезгины и осетины, ну и наконец вышел вокально-инструментальный ансамбль.
Капитан терпеливо прослушал полторы песни, затем раздражённо захлопал в ладоши: «Постойте, постойте! Что за чепуха? Что за тоску тут развели? Есть же прекрасные песни! Вы можете сыграть что-нибудь из Юрия Антонова?»
Басист Серёга, который давно метил в руководители ансамбля, немедленно затряс головой: «Конечно, можем! Под крышей дома моего можем! Поверь в мечту!»
И тут Вова сказал самую длинную фразу, которую я от него слышал: «Но ведь это… — произнёс Вова тусклым голосом, — это же музыка для экзальтированных старцев».
В наступившей тишине Вова снял с себя гитару, положил её на стул и всё в той же тишине вышел из клуба.
Больше он никогда не участвовал в вокально-инструментальном ансамбле «Стремление». Когда в кинозале проходили репетиции, Вова затыкал выходящие в зал окошки своей будки ветошью.
А ансамбль, благодаря капитану, с тех пор процвёл. Песни «это кара-кара-кара-кара-кара-каракум» и «учкудук — три колодца» срывали бешеный аплодисмент у казахов, узбеков и таджиков. Серёга исполнял шуточную песню про тёщу: «Тёща моя! Ласковая! Молодая, озорная, поворотливая!» Плесецкий космодром сменился землёй в иллюминаторе, а от прошлого уныния осталась разве что песня «мой друг художник и поэт» запрещённого ансамбля «Воскресение», но никто из вышестоящего командования про это не догадывался.
Деревня. ноябрь. огонь
А вообще я очень боюсь в деревне огня.
Когда печку растапливаешь по неопытности, то дуешь-дуешь, изводишь кучу бумаги, подкладываешь толь — а всё без толку.
Зато от крошечного какого-нибудь уголька вдруг как задымится! Огонь — штука такая: когда нужен, не разожжёшь, а когда не нужен — не погасишь.
Да и обгорелые печные трубы, время от времени торчащие по дороге в райцентр, подтверждают, что опасения мои не вполне беспочвенные.
Вообще из стихий я сильно опасаюсь только двух: огня и воды. А землёй меня пока не заваливало, да и смерчем не уносило.
Другая жизнь. потоп
Я тогда жил в Алма-Ате в квартире на седьмом этаже, а старушка — на пятом. Она была бывшая учительница. У меня самого половина родственников учителя, и знакомые у них у всех учителя, так что всё моё детство прошло среди учителей. И тёща моя бывшая — учительница, и сам я работал учителем в школе, где каждый день наблюдал семьдесят носительниц знаний на разных стадиях непростого цикла женской жизни. Педагогика — это такое занятие, которое накладывает на человека такой нестираемый отпечаток, что его заметно даже с десяти метров в сумерках. Это вообще такое свойство у всех сильных профессий: врачей, депутатов, менеджеров среднего звена и так далее. Главным качеством учителей, в частности, является укрупнение испытываемых эмоций — чтобы всем было видно, даже с последних парт. В этом они похожи на оперных артистов.
Так вот. Когда я однажды залил весь дом (обычное дело — ушёл на сутки, забыв в раковине на кухне какой-то пакет, а тут как раз дали горячую воду, которой не было с прошлой зимы), я довольно быстро урегулировал все проблемы до самого первого этажа при помощи пятисот долларов. Но только не со старушкой-учительницей.
Когда я позвонил к ней в дверь, она открыла мне с большой бутылкой корвалола в одной руке и с градусником в другой. «Я вызвала „скорую помощь“, — сказала она мне предсмертным шёпотом. — Посмотрите, что вы сделали с моей квартирой».
Я зашёл, посмотрел: на кухне с пола был неровными кусками оторван весь линолеум, в зале со стен оборваны обои и в некоторых местах разворочен паркет. На полу были беспорядочно разбросаны стулья и книги. Мокрым был только один угол — вода, видимо, прошла внутри стен.