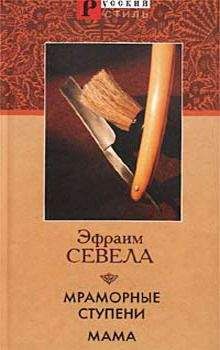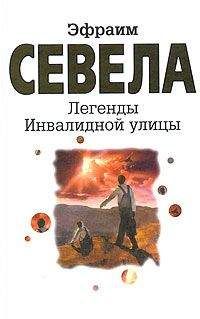— А куда мне идти? — спрашивает Янкель.
— А это уж ваше дело, — улыбается военный чиновник. — Весь мир открыт перед вами.
— Я бы хотел вернуться в Вильно… Там — моя мама.
— Вильно у русских, — с сочувствием говорит военный чиновник. — Въезд солдатам польской армии Андерса туда воспрещен.
— Но я уже не солдат.
— Бывший. И этого достаточно. Русские не простили Андерсу, что он увел свою армию к западным союзникам.
— А в Польшу… мне можно?
— Куда же мне идти?
— Тоже нельзя: По той же причине.
— Куда хотите. Во Францию, в Германию, даже в Америку. Вы — человек без гражданства. Перемещенное лицо. С видом на жительство. Вот и живите…
— Но в Вильно моя мама.
— А для чего существует почта? Писать вы за время войны, надеюсь, не разучились?
Оживленная толпа на расцвеченной огнями послевоенной Пикадилли в Лондоне. Жизнь входит в норму. И лица людей подобрели, стали мягче, приветливей. В толпе мелькает знакомое лицо. Янкель Лапидус. Он замкнут, чем-то озабочен.
Разрушенный Берлин. Обходя каменные обвалы, по расчищенным улицам движутся толпы пешеходов. Одноногий инвалид чистит обувь. Поднимает лицо к клиенту:
— У вас расшнурован ботинок. Можно завязать? Вопрос относится к Янкелю.
Париж. И здесь в послевоенной толпе вдруг возникает лицо Янкеля.
Янкель входит в подъезд дома. Консьержка высовывается из-за полуоткрытой двери:
— Вам писем нет, мосье Лапидус. Но, уверяю вас… скоро дождетесь.
— Вы уже второй год говорите то же самое, — вздыхает Янкель.
В ресторане полно публики. Играет оркестр. На небольшом пятачке, свободном от столиков, танцуют. На мужчинах — штатская одежда. Военная униформа исчезла.
Хозяин ресторана, толстый, апоплексического вида француз, с завидной легкостью лавируя среди столиков, ведет к их заказанным местам элегантно одетую немолодую пару. На мужчине — фрак, белая грудь, монокль в глазу. Пыхтит толстой сигарой. Дама — в дорогих ожерельях и мехах.
Хозяин подобострастно склоняется, подавая им карточки.
— Вас обслуживает Жак, достопримечательность нашего ресторана.
Жестом мага он представляет гостям худого официанта, одетого в ливрейную форму. На груди белой курточки с черными отворотами — две линии орденов и медалей. Это — Янкель.
У богатого гостя при виде орденов выпал из-под брови монокль и закачался на серебряной цепочке.
— Как тебе нравится этот цирк? — усмехнулся он. — Мне любопытно, где они купили эти побрякушки?
Гость сказал это конфиденциально, уверенный, что его не смогут подслушать. Ибо говорил он не по-французски, а по-польски. Лицо Янкеля, до того пребывавшее в виде застывшей маски с угодливой заученной улыбкой, сразу прояснилось, потеплело, и он заговорил тоже по-польски, доверительно склонившись к гостю, изучавшему карточку меню:
— Простите, но я особенно рад обслуживать поляков, моих земляков.
Гость вскинул на него монокль:
— Вы — поляк?
Янкель разогнулся и лихо, по-военному, прищелкнул каблуками:
— Лапидус Ян. Из армии генерала Андерса.
И протянул руку, представляясь. Обладатель монокля не подал ему своей, и рука Янкеля повисла над столиком.
— Для меня новость, — сказала гость своей даме, — что в славной армии генерала Андерса попадались… даже евреи. Вы из каких мест?
— Из Вильно.
— Из Вильно? — монокль снова устремился на официанта. — У меня там остался фамильный дворец, который, по дошедшим до меня сведениям, коммунисты конфисковали и превратили в приют для инвалидов. Или что-то вроде этого.
Янкель сочувственно вздохнул:
— А у меня там осталась мама. Я не знаю ничего о ее судьбе. Вы не могли бы мне помочь… советом?
— Мы пришли в ресторан не для того, чтобы давать советы, — нахмурился гость. — А вы, молодой человек, здесь не для того, чтобы их спрашивать. Ваше дело — обслуживать. Быстро и… молча.
Увидев проходящего хозяина ресторана, гость с побагровевшим лицом поманил его пальцем:
— Замените кельнера. Мы предпочитаем, чтоб нас обслуживал человек одного с нами, христианского, вероисповедания. А этого клоуна уберите. Меня раздражают побрякушки на его груди, которые он, не сомневаюсь, приобрел на блошином рынке.
Янкель, наливавший из графина воду в бокал, подошел с полным бокалом к господину с моноклем.
— Если вам трудно поверить, что еврей был на войне, — тяжело дыша произнес он, — то этот мой поступок, возможно, убедит вас.
Левой рукой он вырвал монокль из-под его брови, правой плеснул содержимое бокала в багровое лицо.
Поставив бокал на место, Янкель в присутствии всех гостей снял с себя официантскую курточку и стал по одному отвинчивать с нее ордена и медали, приговаривая при этом:
— Вам повезло: я хоть и прошел четыре года войны, но бить людей так и не научился. Даже таких… свиноподобных.
— Жак! Вы уволены! — взвизгнул хозяин ресторана. Янкель обернулся к нему:
— А вам на прощанье я бы с наслаждением тоже плюнул в лицо, но… у меня от волнения пересохло во рту… Не взыщите.
Он швырнул хозяину кургузую лакейскую курточку.
Маленькое кафе, освещенное свечами.
Грязный оборванец дрожащей рукой поставил на стойку пустую рюмку. Кельнер в клеенчатом фартуке смерил его презрительным взглядом:
— Франк и пятнадцать сантимов.
Оборванец роется в карманах. По одной достает, нашарив, мелкие монеты и раскладывает на мокрой стойке. В очередной заход он достает из кармана пригоршню медалей и орденов и, высыпав их на стойку, роется среди них в поисках лишней монеты. У оборванца небритое, обросшее черной щетиной лицо. Не так легко узнать Янкеля.
Ночь. Вдоль улицы мигают разноцветные неоновые огни. Лишь изредка проедет автомобиль.
На тротуаре, на железных решетках метро, откуда идет снизу теплый воздух, в самых живописных позах расположились трое бродяг — парижские клошары, которым улица служит домом, а решетки метро — кроватью. На асфальте валяются пустые бутылки из-под вина. Один из клошаров — Янкель.
— Когда я был совсем маленьким, моя мама каждую ночь пела мне колыбельную песню.
— Врешь ты все! — рассмеялся улегшийся слева от него бородатый клошар.
— Ты столько говоришь о своей маме, что я уверен — у тебя ее никогда не было.
А клошар, что лежал справа от него, хрипло прокричал:
— Ты подкидыш! И он — подкидыш! Мы все подкидыши в этом мире!
Прохожий споткнулся о вытянутые ноги клошаров и чуть не рухнул на асфальт. Он устоял лишь потому, что его подхватили два спутника. Все трое — в военной форме французского Иностранного легиона. Тот, что чуть не упал, пьяно обругал клошаров на непонятном языке:
— Пся крэв! Холера ясна!
Янкель поднял глаза и узнал в легионере пана Зарембу, своего унтер-офицера.
— Пан унтер-офицер! — прошептал он, не веря своим глазам. — Какая встреча! В Париже! Чуть ли не на Елисейских полях! Рассказать об этом в Варшаве — нам бы с вами плюнули в лицо и не поверили ни одному слову. Заремба долго смотрит на него и наконец узнает:
— Янкель! Жив? Мне не мерещится? Ребята, это мой фронтовой товарищ! Служил под моим началом. В Африке. Кавалер креста Виктории! А ну, вставай, не нарушим традиции польского оружия! Вставай, Лапидус! Слышишь, нас зовет боевая труба!
Заремба в военной форме и Янкель в своем рванье стоят навытяжку перед пустым столом, за которым восседает, развалившись в кресле, французский офицер.
— Кого привел, Заремба? — лениво спрашивает офицер. — Мы принимаем в легион кого угодно: уголовников, беглых каторжников, бывших эсесовцев, но такой материал нам никак не годится.
— Не годится? — удивился Заремба. — Тогда полюбуйтесь на это.
Он запускает руку в карман пиджака Янкеля и швыряет на стол перед французским офицером пригоршню орденов и медалей. У офицера округляются глаза. Он даже встает.
— Теперь убедил. Принят, Жака Лапидуса поставить на довольствие!
Над воротами лагеря, охраняемыми двумя вооруженными легионерами, на длинном флагштоке развевается французский флаг.
На плацу идет учеба. Солдаты Иностранного легиона, в пятнистом маскировочном обмундировании, стриженные наголо, повзводно отрабатывают строевой шаг, учатся с полной выкладкой преодолевать препятствия, овладевают приемами штыкового боя. Дисциплина — жестокая, унтер-офицеры — беспощадны.
В одном из углов плаца легионеры сидят кружком на земле, а в центре круга два типа разбойного вида под надзором Зарембы практикуются в рукопашной схватке.
Один сунул другому пальцы в рот и разрывает ему губы. Тот взвыл и вырвался.
— Плохо! — кричит Заремба. — Повторить!
— Не могу! — чуть не плачет легионер. — Он мне рот разорвал!
— Не можешь? — спросил Заремба. — Тогда я тебе кости переломаю!
И Заремба стеком начинает избивать легионера, пока он не валится на землю. Заремба еще несколько раз поддает ему носком ботинка под ребра и приказывает: