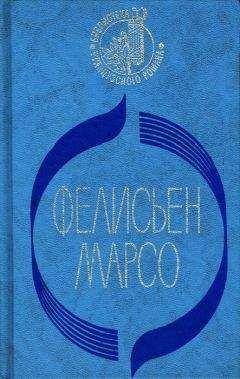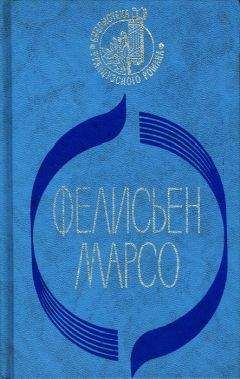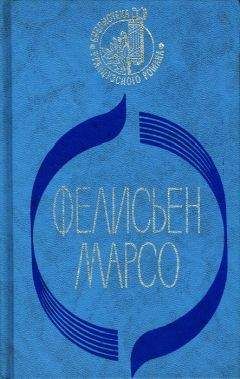— Вот ведь досада, — сказала женщина. — У меня назначена встреча, и меня ждут.
— Позвольте нам пройти, — попросил я.
Служащий даже не соизволил ответить.
— Ишь, какой упрямый, — заметила женщина.
— Он испытывает от этого удовольствие, — пояснил я.
Тот зло посмотрел на нас. Это нас в некотором роде объединило. А служащий в конце концов открыл дверцу, но постарался сделать это как можно медленнее.
— Есть же такие балбесы на земле, — доверительно сказала женщина.
Короче, когда она вышла из метро, я остался с ней. Мы зашли немного перекусить в кафе. Вот эти детали я еще помню. Кафе, лицо служащего. А ее лицо совершенно забыл. Кажется, у нее были светлые волосы. Белобрысые. С каким-то неопределенным оттенком.
— Вы в какую сторону идете?
— На улицу Данремон.
— Я провожу вас?
Затем, когда мы проходили мимо гостиницы:
— Может, зайдем.
— Давайте зайдем.
Мы вошли. Но только не в эту гостиницу, а в следующую. Потому что первую мы уже прошли, и что-то нас подталкивало идти вперед, что-то такое, что могло бы исчезнуть, если бы мы повернули назад. Это была комната в коридоре, с мебелью, стоявшей вдоль стены, — настолько помещение было узким, с лампой не посередине, а в конце комнаты, рядом с умывальником, отчего кровать казалась стоявшей как бы в туннеле. В общем, ничего веселого. И в этом туннеле распростертая блондинка, которая лежала, закрыв глаза рукой, лежала, не шевелясь, и отдавалась без всякого участия, без эмоций. А поскольку я не очень-то хорошо представлял себе, как надо начинать, то возникла странная ситуация. Может быть, поэтому мне ничего и не запомнилось. Я больше помню эту странную ситуацию, чем женщину. Я ей сказал:
— Знаешь, а я впервые вот так люблю женщину.
Я думал, что это побудит ее к более активным действиям. Что она прижмет мою голову к своей груди. Проявит какое-то понимание. Выразит свою радость. Девственник, подумать только! Ничего подобного. Она просто произнесла из-под руки:
— Это неправда.
Может, она все знала лучше, чем я? Поразмыслив, я мысленно предположил, что, возможно, она поняла меня в том смысле, что я никогда не любил так сильно, никогда не любил до такой степени. Это — еще одна черта системы — все время искать во фразах какой-то другой смысл, отличный от того, который человек в них вкладывает. Мне надо бы сказать: а ты знаешь, я ведь девственник. Но где гарантия, что это произвело бы более сильное впечатление? Никакой гарантии. Это, наверное, все-таки, чепуха, распространенное мнение, будто женщины впадают в экстаз, когда узнают, что имеют дело с девственником. Во всяком случае я потом, с другой женщиной, постарался высказаться предельно ясно:
— А ты знаешь, я — девственник.
Она мне ответила:
— Это ничего не значит.
Вид у нее при этом был достаточно безразличный.
Что касается белобрысенькой, то я назначил ей свидание на следующий день. Она не пришла. Я попытался было понять причину. Но мне это не удалось. Короче, я повторяю: тот случай не представлял никакого интереса, не имел никакого значения и остался без последствий. Он мог бы мне пригрезиться, и результат был бы тот же самый. Результата оказалось меньше, чем на тридцать франков, которые я отдал за гостиницу и которые я бы мог с таким же успехом употребить на что-нибудь другое.
Нет, настоящим событием для меня в ту пору моей жизни, событием, которое изменило меня и оставило в моем сознании самый сильный отпечаток, оказалось нечто иное. Однажды вечером я возвращался домой. Я жил тогда еще с отцом и с матерью. Прихожу. На лестнице совсем темно. Щелкаю выключателем. Безрезультатно. Я подумал, что это какая-то неисправность. Карабкаюсь по ступенькам. Перед нашей дверью вытаскиваю ключ, протягиваю руку. Она упирается во что-то мягкое. В ткань. В какое-то тело. И мне стало страшно. Я УЗНАЛ страх. Сначала у меня было такое ощущение, будто по моему телу пробежал мороз, прямо по коже. Потом у меня в груди со стороны сердца что-то разбилось и в виде отдельных кусков, похожих на стены, сползло мне на грудную клетку, придавило ее так, что она чуть не разорвалась. Я закричал.
Так вот! То была всего лишь шутка. Розыгрыш моего отца. Он заметил меня на улице и, зная, что на лестнице нет света, поджидал меня в двери, чтобы подшутить. О! Мой отец был весельчак. Подшучивать над людьми — это было его любимое занятие. Ну и смеялся же он.
— Ха-ха, Эмиль! Ты испугался, признайся, Эмиль!
А я, я никак не мог прийти в себя и все еще дрожал.
Именно с тех пор у меня и появился страх. Страх перед всем. Я стал бояться шума и тишины. Мрака и полутьмы. С тех пор я все стал воспринимать по-другому. Кошка пройдет у меня между ног, и я уже кричу. Что — то обрывается в моей грудной клетке. Я чувствую, как мной овладевает какое-то тоскливое и неподвижное безумие, как оно сжимает мне сердце: страх. Страх, который каждый раз отнимает у меня кусочек жизни, я это отчетливо ощущаю. Страх, который изнашивает меня. Как болезнь. Как если бы я стал эпилептиком. А мой отец хохотал. Он с видом победителя вошел в квартиру и, смеясь, рассказал о своей шутке.
— Я так разыграл сейчас Эмиля. Эмиль, правда же, хорошо разыграл. А, Эмиль? Признайся, что ты испугался, Эмиль.
Я бы с удовольствием поколотил его. Разве не было основания? «Я так разыграл сейчас Эмиля». А убийцы? Им тоже так хорошо удается разыгрывать людей? Шутка! Но эта шутка сломала меня навсегда. Как подумаю, что во всем мире, повсюду, дети находятся во власти своих родителей, меня сразу начинает трясти. Да за эту шутку его следовало бы поколотить не раз, а целых сто раз. Но (система) отца колотить нельзя. К счастью, я удержался. А то люди, в простоте душевной, могли бы еще сказать, что я ускорил его смерть. Потому что, надо сказать, он умер. Чуть позже. От перитонита. Я даже немного переживал. Серьезно. Но не была ли моя грусть тоже данью системе? Поди разберись. Переживания ведь заразительны. Мать ведь плакала. Но вот что интересно: плакала она только в том случае, если к нам кто-нибудь приходил. Это тоже стоит отметить. Допустим, она стояла у плиты и готовила омлет. Кто-то приходил. Госпожа Шампьон или госпожа Набюр. Моя мать вытирала руки о фартук и тут же начинала плакать. Так вот сразу, ни с того ни с сего. Как у фотографа, когда лицо принимает определенное выражение. Все черты ее лица начинали двигаться, собирались в гримасу. И вот уже поток слез. Потом визит заканчивался.
— Ладно, — говорила она.
И снова принималась за свой омлет с обычным выражением лица. Не то, чтобы она не переживала. Вовсе нет. Просто я думаю, что слезы для нее были как бы своего рода роскошью, которую она могла позволить себе только во время чьего-нибудь визита, когда она все равно не могла заниматься больше ничем другим. А по окончании визита эту драгоценность следовало убирать в сервант, как кофейник, которым пользуются только по воскресеньям, и приступить к повседневной работе. Так мне во всяком случае кажется. Я просто пытаюсь объяснить. Или, может быть, она видела в этом своеобразное проявление вежливости, которого нельзя лишать людей, чтобы не получилось, что они пришли напрасно.
У меня тоже было муторно на душе. Учитывая особенно, что я тогда уже подумывал о том, чтобы снять комнату и жить своей жизнью. И вдруг, паф! Эти две женщины, свалившиеся мне на голову. Хотя материально они не нуждались во мне. Жюстина вполне зарабатывала себе на жизнь. Но куда деться от системы. Дядя Эжен, лейтенант полиции в отставке, говорил:
— Эмиль, теперь у этих двух женщин надежда только на тебя.
Пришлось остаться. В качестве третьего лишнего для их ругани. О, как же они ругались, эти женщины! Я возвращался домой. И всегда заставал их обливающими друг друга помоями. Из-за сущих пустяков. Обе осатанело доказывали свою правоту. Не допуская и мысли, что последнее слово останется за противницей. Я говорил: «Может, все-таки хватит.» И тут обе набрасывались на меня. «У тебя нет характера», — говорила мать. «Заткнись, рогоносец», — добавляла Жюстина. Рогоносец? Это я-то? Человек, только-только утративший свою невинность! Но таков мир. Суетная болтовня людей.
Итак, я повторяю, эпизод на улице Жермен-Пилон не имел для меня никакого значения. Никакого. Дым. Сновидение. Откровение, утверждают люди. Говорят, что впервые переспать с женщиной — это откровение. Но откровение чего? Никто не знает. Предположим, вы никогда не видели газеты. Так вот. Я беру вас за пуговицу и говорю: газета — это то-то и то-то, столько-то сантиметров на столько, фотографии в середине, а по сторонам — текст. Ладно. А затем я показываю вам газету. Вы что, испытаете откровение? Так и с любовью. Еще до эпизода на улице Жермен-Пилон я знал, что это такое. Мог, во всяком случае, составить себе представление. Я знал, как устроена женщина. Не говоря уже о том, что анатомию белобрысенькой я даже и не разглядел как следует и из-за того, что свет был плохой, и из — за своего собственного смущения. Голова у меня была занята другим. А ведь всем известно, что когда о чем-то думаешь, то наблюдать очень тяжело.