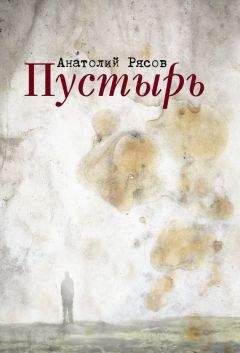Никто не удивился, когда он не заплатил взнос за ружье на следующий год после истечения срока вы платы государственного займа, но удивились, что за этим ничего не последовало и никто не пришел конфисковывать ружье. А он все более обрастал воском молчания и отчуждения. Они пришли только через год, двадцать восьмого сентября, со своими членскими билетами, готовые сунуть их ему под нос при первом слове протеста, и Мама Всех Детей вышла к ним, чтобы сказать, что его нет дома, но он снял со стены ружье, постоял минуту у окна, а потом извлек из запушенного, священного угла пять рублей, запихнул их негнущимися пальцами в нагрудный карман клетчатой рубашки и медленно пошел к ним, стараясь выиграть время для раздумий, все еще не зная, что отдать, и до последнего шага не знал, а потом подумал, что сами руки должны сделать выбор, и когда он остановился перед ними, глядя на далекий сосновый бор, руки его, не дрогнув, медленно протянули им ружье.
Первым делом он сжег все книги, картины, репродукции и фотографии, пола гая, что они могут сбить с толку, попадаясь на глаза, или могут просто мешать, когда дело дойдет до осады. На это ушел весь день, но не потому, что их было много, а потому, что они медленно горели. Кожаные переплеты книг и по золоченные рамки картин приводили его в отчаяние. Он неподвижно стоял перед камином в длинном коричневом халате и дырявых тапочках и думал о том, что у него мало времени, мало времени, и смотрел, как огонь давится кожаными переплетами старинных фолиантов, точно собака, которая не может проглотить забитую в глотку кость. Позолоченные рамки огонь обходил стороной, как воду, и он подумал, что они не деревянные, или деревянные, но обмазаны толстым слоем окаменевшей замазки. Сами картины давно сгорели. Наконец, кожаные переплеты рассыпались прахом, а позолоченные рамки, не тронутые огнем, запылали под его неистовым взглядом, и тогда он свалился в кресло без сил и почувствовал, что упал с немыслимой высоты, как если бы бог упал на землю; почувствовал себя тяжелым и смертельно уставшим для всего, что предстояло сделать.
Когда силы вернулись к нему, на улице была гроза. Он вышел на террасу, посмотрел в лес и подумал, что, если они пойдут на него сейчас, все будет кончено и не нужно было ничего сжигать.
Он постарался не думать об этом.
И тогда он подумал: если они двинут на него пушки, танки, самоходки, для того чтобы сровнять с землей все то, что испокон веков равно земле, он будет бессилен что-либо сделать. Это привело его в отчаяние, более глубокое, чем то, которое он испытал, когда кожаные переплеты и позолоченные рамки не горели в огне.
Он постарался не думать об этом.
И тогда он подумал: они могут поднять самолеты, которые уничтожат его, и уничтожат все, что не являлось им, на тысячи миль вокруг.
Но он сказал: нет, они не двинут на меня танки и не поднимут самолеты. Это все равно что снаряженный для атомной войны корабль выпустить в море, чтобы он разрезал лопастями одну медузу.
Он постарался не думать об этом.
Он зашел в спальню, открыл гардероб, достал старую военную форму и маскхалат, который маскировал лишь на траве, под бликами солнца. Нашел под кроватью одежную щетку, смочил ее водой и тщательно вычистил форму и тяжелые, в заклепках, сапоги. Раз делся и принял холодный душ. Потом надел форму и сапоги, тяжесть которых приковала ноги к полу, а по верх формы надел маскхалат и почувствовал себя де ревом, которому предстоит ходить. Мало-помалу он привык ходить в сапогах и привык не обращать внимания на собственную медлительность, полагая, что черепаха обязана долголетием своей медлительности. Он подумал: думать необходимо так же медленно, как двигаться, иначе умрешь внутри гораздо раньше, чем снаружи. Кроме того, необходимо замедлить бег крови в жилах — тогда меньше износ, потому что слабее трение; замедлить частоту ударов сердца, потому что молоток, которым забьют тысячу гвоздей, износится раньше молотка, которым забьют один; приостановить стремительность мысли до медлительности часового маятника — вот в чем секрет.
Он заснул в кресле далеко за полночь и проснулся в полдень с мыслью о танках и самолетах. Он заметил, что при мысли о танках и самолетах у него дрожат руки и ноги, выпадают волосы, слабеет зрение и цепенеет мозг. И он понял: если постоянно думать о танках и самолетах — не проживешь дольше бабочки. А потом подумал, что давно у них в руках. Прислушался и глубоко вздохнул. Было тихо, и тогда он вспомнил о бесшумном убийстве; и тогда от отказался от еды и воды, потому что все это могло быть отравлено, и понял, что в конце концов придется отказаться от сна, потому что во сне человек беспомощен, как вещь.
Он постарался не думать об этом.
Спустился на первый этаж и проверил, заперты ли замки и засовы входной двери. Убедившись, что отсюда они не смогут проникнуть в дом бесшумно, он проверил засовы на ставнях всех окон первого и второго этажей.
И тогда он подумал о террасе, которая выходила в лес. В глубине сознания он твердо знал, что они придут из леса и сначала попробуют захватить просторную террасу. Теперь он понял, что знал это всегда и родился слепым, немым, глухим, но твердо зная, что они придут из леса и сначала попробуют захватить просторную террасу.
Он установил на террасе два станковых пулемета, и лишь на то, чтобы их туда вытащить, ушло полдня. Намертво закрепил, прикрутив наваренные стальные пластины стоек к полу террасы огромными болтами, какими крепятся высоковольтные столбы, для того, чтобы пулеметы не повернули против него, если тер раса все-таки будет захвачена. На случай захвата тер расы он установил в комнате напротив ручной пуле мет, диск которого был заряжен разрывными пулями с крестообразным надрезом и полостью в головной части. Он установил ручные пулеметы в каждой комнате и снял с предохранителей, потому что потом на это могло не оказаться времени.
И вновь подумал о самолетах и танках, и мозг сковало отчаяние.
Но он сказал: нет, они не двинут на меня танки и не поднимут самолеты. Это все равно что снаряженный для атомной войны корабль выпустить в море, чтобы он разрезал лопастями одну медузу.
Он стоял на террасе лицом к лесу, между станковыми пулеметами, лафеты которых были зафиксированы стальными штырями влево-вправо на горизонтальный разворот стволов в радиусе тридцати граду сов. Он думал: если они пойдут на террасу клином, левый станковый пулемет он укрепит, повернув ствол до предела вправо, и поставит кусок арматуры в рас пор на гашетку, а за правый станковый пулемет встанет сам, потому что от правого станкового пулемета ближе до двери в комнату перед террасой, куда он будет отступать. Таким образом он противопоставит клину противника конус пулеметного огня из двух то чек, то есть клин в клин. Но если внешние стороны клина пулеметного огня работают, то внутри клин полый. И тогда он просчитал в шагах расстояние от одного станкового пулемета до другого, высчитал радиус разворота стволов и высчитал расстояние до точки, где пулеметные очереди пересекутся, образуя конус. И тогда он взял топор, сошел с террасы на землю и про шагал высчитанное в шагах расстояние до точки и сделал крупную зарубку на стволе дерева — и это была точка, где пулеметные очереди пересекутся.
При проходе клина противника в непростреливаемое станковыми пулеметами пространство полого конуса оба пулемета теряют значение, и он будет вынужден отступить в комнату перед террасой, за ручной пулемет с разрывными пулями, и стрелять через двери, ведущие на террасу поверх парапета. В этом случае ручной пулемет, установленный в комнате, окажется важнее двух станковых, установленных на террасе и предназначенных лишь для того, чтобы уложить единиц столько, сколько он успеет, пока они не прорвутся за отмеченное зарубкой дерево.
Но он сказал: они не пойдут клином.
Если они пойдут фалангой — сомкнутым строем — с последующим окружением дома, один из станковых пулеметов, точнее, левый без стрелка с закрепленным в одном положении стволом, почти теряет значение, так как от его пуль легко увернуться. И если они на время откажутся от захвата террасы, остается ждать нападения со стороны входной двери, после того как они окружат дом, но и террасу бросать нельзя.
Он постарался не думать об этом и не думать о голоде и жажде, прекрасно понимая, что глупо отравиться сейчас, когда все, что он хотел сделать, сделано, и необходимо только ждать.
Он еще раз прошел по комнатам, проверил пулеметы, и поцеловал ствол каждого, и поцеловал нож, который держал при себе и лезвие которого звенело, как хрусталь.
Пеплом из камина он нарисовал стрелки на стенах комнат, заранее определив и указав себе путь отступления — из комнаты в комнату, и подумал, что этот маршрут действителен, если он поведет оборону дома, начиная с террасы. Кроме того, он нарисовал на стенах комнат курсивные стрелки — путь отступления, которому он должен следовать, если нападут со стороны входной двери и отступать придется, начиная с прихожей. И те и другие стрелки сходились в самой дальней угловой комнате, где не было ни мебели, ни пулеметов, где много лет назад он родился.