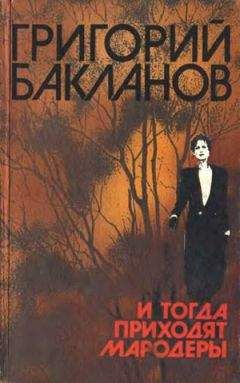— Нет, конечно, — сказал Лесов и ждал. На Юриной фотографии взгляд этого человека не задержался. Упираясь руками в подлокотники, он тяжело поворачивался в кресле, удобней помещал себя.
— Ох, как не хотелось ему автомат свой отдавать! А чего скажешь? Интересно, шрам этот у него с детства? — и толстым пальцем провел от угла глаза по щеке точно так, как во сне по щеке текла кровь.
Лесов не был суеверен, разве что — под конец войны, как большинство фронтовиков: война кончается, обидно погибать. Но сейчас и ему стало не по себе, смешивались сон и явь.
— Нет, шрама у него не было. Брат что-нибудь рассказывал о себе?
— Врать не стану, много лет прошло. Про себя и то не все помнишь. Говорил, будто искал партизан, да вышел на нас. Те двое, которые с ним были, отстали потом, а он все за нами шел, спящего в кустах обнаружили. Вот тут уж привели к комиссару. Тот сразу заподозрил, время строгое было, сами помните. Да еще в окружении. Утром начнут считать — одного нет, другой исчез. А он, наоборот, за нами идет. Очень это комиссару показалось подозрительно, этот говорит, переодетый. Но тут немец нажал, в бою он себя неплохо показал, винтовкой раздобылся. А все равно велено было глаз с него не спускать.
И еще сапоги снял с убитого немца. Это, если в них в плен попасть, плохо дело. Он их, помню, вот здесь разрезал. Для чего, спрашиваю, сапоги испортил? В подъеме жмут. Это — правда, ноги у немцев не по нашему образцу сделаны. Что же у вас, я вижу, все энциклопедии собраны? Ай-я-яй, сколько понаписали! — он тяжело подымал себя, упираясь левой здоровой ногой в пол, руками — в подлокотники. — Можно взглянуть? Я вот эту, шеститомную, в библиотеке брал, пробовал читать. Врут. И опять же его несут вперед ногами. А я вам скажу, по русскому обычаю покойников с кладбища не носят.
И, подойдя к полкам, смотрел. Три энциклопедии Отечественной войны стояли рядом: однотомная, в шести и в десяти томах.
— Эту я еще не видал, — показал он на десятитомную. — Тоже врут?
А полкой выше, за стеклом был Юрин портрет. Лесов ждал, вот сейчас решалось.
Дармодехин за корешок вытянул один том, полистал, держа в руках, поставил обратно. Задвинул стекло, мельком оглядел другие полки, по увеличенной фотографии взглядом скользнул и направился к креслу. Но как за вспышкой выстрела не поспевает звук, так мысль не враз догнала его, не связалась со зрительным впечатлением. Обернулся. Снова подошел. Надел очки. И стоял, вглядываясь. Покивал, покивал головой:
— Он! Только молодой совсем. Я-то его другим знал. И шрама здесь нет на лице. Я еще спросил, шрам откуда, мол? Да так, грехи молодости. А шрам свежий, кожица розовая, рваный. И не видать, чтоб зашивали, вот что мне интересно стало. Следы швов, они не сразу сходят, а их, вроде, нет.
Глазам Лесова горячо стало. Боже мой, что же Юре вынести пришлось, если на этой фотографии он молодым показался. А она — предвоенная, несколько месяцев отделяет ее от того времени, когда этот человек видел Юру.
— Но мне так показалось, — говорил Дармодехин, — что-то неподъемное носил он в душе. Замечали, наверное, другой раз перед боем, вроде бы и не с чего, а люди самое откровенное рассказывают о себе. Не хочется совсем исчезнуть, а так хоть что-то кому-то в память западет. А он сидит, уставясь в свои мысли, окликнешь — не сразу узнает. Далеко где-то был, мыслью издалека возвращался. И еще не любил, чтоб сзади к нему подходили. Комиссар один раз — чего ему так вздумалось? — неслышно подошел со спины, так он его прикладом чуть не зашиб до смерти. С тех пор тот вовсе на него взъелся, глаз, мол, с него не спускай! Кто перед совестью чист, проверен, тому совершенно безразлично, хоть сзади, хоть спереди к нему подходи, хоть даже сбоку. Ну, думаю, если выйдем к своим, прорвемся, комиссар сдаст его в особый отдел. Я еще почему фамилию вашу запомнил: Лесовы у нас в городе были, богатые прасолы, дом кирпичный двухэтажный большой. Не из них случаем?
— Нет, купцов в нашем роду не было, — сказал Лесов.
— Вот и брата вашего я тоже спрашивал. А когда на прорыв пошли… Это уже октябрь месяц, немец под Москвой стоит, мы адресами обменялись: кто живой останется, должен сообщить. Он еще сказал, у меня брат только, больше никого на свете не осталось. Но меня сразу шарахнуло. Кто вынес, за кого бога молить?.. Полгода вообще не разговаривал, мычал только. Я и сейчас гляжу на человека или, скажем, на предмет какой-нибудь, вот оно, слово, на языке, а не могу вспомнить. Хоть плачь, хоть смейся.
Значит, в октябре еще Юра был жив.
— А после, — спросил Лесов, — после слышать не приходилось? Видеть кого-нибудь, кто с вами был?
— Нет. А тут вот недавно в больницу попал, сосед по палате читает книжку. Его вызвали на процедуру, он ее вот так вот положил раскрытую обложкой вверх. Дай, думаю, погляжу со скуки. На обложке — Лесов. Я — без внимания. Стал смотреть — посвящение брату. Тут только мне в голову и стукнуло. И опять же сомнение взяло: он, мол, автор своих книг, а я что такое? Эвон, мол, когда вспомнил, подумает, понадобилось что-то, вот и звонит…
— Что вы, что вы! — говорил Лесов, именно так и подумавший сразу.
— Да так уж она, жизнь, устроена.
Вошла Тамара:
— А я хочу звать вас к столу. Ты, может, все же свою жену представишь?
Гость тяжело подымался с кресла, и Лесов уловил то первое, главное, самое неподдельное впечатление, которое произвела на него Тамара, его глазами увидел ее. Не молодящаяся, не накрашенная (чуть только — губы), мать и бабушка, стояла Тамара в дверях в летнем платье-рогожке, в нарядном фартуке, а из-за фартука, лапками схватясь за него, выглядывала Томочка, их внучка, два быстрых, любопытных глаза. И это тоже была Тамара, часть ее неотделимая. «Какое хорошее, какое человеческое у нее лицо», — словно впервые за долгое время увидав, подумал Лесов с благодарной нежностью. И все ее сегодняшние хлопоты, и даже естественное женское желание понравиться — все это ради него. А вот внучка, обычно бойкая, не застенчивая, тут вдруг задичилась, когда гость поманил ее, спряталась за бабушку, чего-то испугавшись, потом вовсе убежала. И за стол не пошла.
— Она у нас дикая, не обращайте внимания, — говорила Тамара. И накрыла внучке на кухне, и та в обществе кошки Мурки прекрасно там чувствовала себя.
— Надо бы первую — за хозяйку, — пухлая рука Дармодехина, в которой он держал стопку, дрожала, водка едва не расплескивалась. — Но, — и вздохнул, — помянем.
Пьянел он быстро, и, когда Тамара внесла горячее — тушеное мясо с грибами, — он уже не разбирал, что ест. Все летнее, свежее, пахнущее летом, — помидоры, огурцы, молодая картошка с укропом — все перемешанной кашей лежало на тарелке, и вместе с селедкой, икрой кабачковой он вилкой подгребал это в рот.
— Такую победу просрали! — говорил он с надрывом. — Столько народу положить и все просрать!
И увидел Тамару, ставившую блюдо на стол:
— Вы простите, с души сорвалось. На этих днях вхожу в метро, сидят молодые, здоровые быки, увидели — как по команде заснули. Женщина встает, уступает место. Нет, говорю, вы сидите. А вот он… И палкой потолкал его в ботинок, проснись, мол. А ботинок на нем… Я за всю мою жизнь такого не износил. И что вы думаете? Сложил вот эдаким образом накачанные ручищи, грудь подпер, уставился на мои колодки, другие фронтовики стесняются, все равно — один почет. А я ношу. Чем еще могу я в жизни отличиться? Вот он на отличия мои глядит, развалясь: «Ты чего, дед, разбухтелся? Счастливую нам жизнь завоевал? Немцы пиво пьют да сосиски жрут, а тебе из милости в мороз черпак супа прислали. Победитель…» А? Вот до чего нас опустили. И хоть бы кто в вагоне слово сказал. Боятся. А которые еще и злорадствуют. Хотел я его палкой, палкой!.. Да ведь он пхнет меня, я и сяду. Стою перед ним, ртом воздух глотаю, мысль одна: не помереть бы сейчас с позором.
— Так это фашист! — не выдержала Тамара. И выбирала ему мясо посочней, клала на чистую тарелку. — Ешьте, пожалуйста.
— Вот что сделали со страной! Не живем, дни доживаем. Жить стало стыдно, оттого друг на друге зло срываем. А при нем весь мир нас боялся, в страхе сидел.
— Бешеных тоже боятся, — сказала Тамара тихо.
— Не-ет, извините! — гость покачал седой головой. — Он напоследок, знаете, что сказал мне? Ему на площади Джержинского выходить, так он поднялся и на ухо мне, чтоб полвагона слышало: «Вы когда все передохнете? Вымрете все когда?» Да если б раньше!.. Да его б за такие слова, — и будто муху со скатерти поймав, зажал в кулаке, потряс над столом. — Он бы и на поверхность выйти не успел. Вот как нас уважали. А теперь мы кто? Побежденные.
Будто другой человек сидел за столом. Тамара молча вышла.
— Не любит, — Дармодехин кисло усмехнулся. — Особенно ежели кто из семьи… Понимаю, понимаю…
— У моей жены никого в семье не успел он ни посадить, ни расстрелять. Но — не любит, вы правы. Имени его слышать не может.