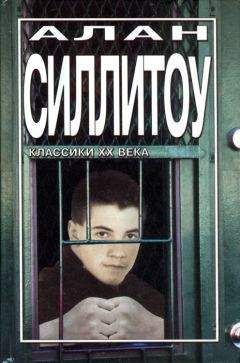Эрнст произнес неуверенным голосом: «Помидоры с гренками, если можно». Он взял в руки блюдо, которое перед ним поставили, и медленно вышел из толпы, затем обернулся и направился к свободному столику в углу столовой.
Еда на тарелке пахла очень аппетитно. Он взял нож и вилку и быстрым, точным движением человека, привыкшего к занятиям ремеслом, отрезал кусочек гренка с помидором и медленно отправил его в рот, с наслаждением, практически не замечая ничего, что происходило вокруг него. Все, что он делал за столом: подносил нож с вилкой к тарелке, отрезал кусочек гренка и отправлял его в рот — все это слилось в одно сложное и последовательное движение, которое, по всей очевидности, поглощало его целиком без остатка. Он ел медленно, тихо и сосредоточенно, занятый только собой, ощущая, как еда согревала и успокаивала все его существо. В переполненном кафе стоял обычный шум от позвякивания ложек, чашек и прочей посуды: он, раздавался со всех сторон, как разноголосая мелодия.
Эрнст ел один уже на протяжении многих лет, однако все еще не мог смириться с одиночеством. Он никак не мог привыкнуть к нему, постоянно повторяя себе, что это всего лишь временно, и что в один прекрасный день все наконец изменится. Он мало что вспоминал из своего пошлого и жил теперь, практически не замечая течения собственной жизни. Да он и не помнил почти ничего из того, что произошло с ним ранее, за исключением убитых или тяжело раненых людей, разбросанных между колючей проволокой и окопами во время Первой мировой войны. Все последующие годы он постоянно повторял две фразы: «Я не должен сейчас жить здесь, в Англии. Я должен был погибнуть с ними со всеми там, во Франции». Однако со временем он перестал повторять их, и перед его мысленным взором остались только эти беззвучные, нелепые образы.
Он понял, что люди стали относиться к нему так, как будто он был призраком, как будто не был создан из плоти и крови (или, по крайней мере, ему так казалось). И с тех пор он стал жить в одиночестве. Жена ушла от него — разумеется, из-за его отвратительного характера, а братья уехали в другой город. Сперва он хотел повидать их, но потом передумал: ему казалось, что лучше будет оставить все как есть и просто продолжать жить. Он был уверен, что не стоит возвращаться в прошлое и разыскивать старых друзей, идти туда, где бывал в молодости, пытаться воссоздать в памяти свои лучшие годы, ведь это похоже на смерть. Он решил, что пока о них лучше не вспоминать, поскольку после смерти, когда бы она не пришла (по крайней мере, ему так казалось), он снова обретет их, и теперь уже раз и навсегда.
Он не был ранен, хотя получил контузию, и поэтому, как часто случается после окончания войны, ему не стали выплачивать пенсию. Однако мысль о несправедливости ни разу не пришла ему на ум. Однако теперь он уже ни о чем не беспокоился: навалившиеся годы сломили его, и благодаря этому он стал относиться к своей жизни с безразличным спокойствием. Когда началась следующая мировая война, он вел вполне беззаботное существование. Да, он провел в тюрьме не один день, и не раз платил штраф за то, что у него не было при себе удостоверения личности или продовольственных карточек, которые он запросто отдавал с легким сердцем какому-нибудь дезертиру, но и это не выводило его из равнодушной подавленности. По ночам в его памяти всплывали кошмарные, нелепые картины артиллерийского огня и рвущихся бомб, — в то время, как он неподвижным, невидящим взглядом смотрел на стены своей комнатки в полуподвале, которую он снимал. Он старался забыть их, но они преследовали его так же, как и безумные словах тех двух фраз. Но война вскоре закончилась (в его долгой жизни она заняла не так уж много времени) и снова ничего не происходило. Он кое-как сводил концы с концами, зарабатывая себе на жизнь тем, что обивал кресла, диваны и стулья, которые его, впрочем, совершенно не интересовали. Когда работу было найти трудно и жизнь становилась совсем уже тяжелой, он едва это замечал. И теперь, когда у него все ладилось и было достаточно денег, он не почувствовал большой разницы по сравнению со своим предыдущим существованием. Все, что у него было, он тратил на пиво, не разу не задумавшись над тем, что стоило бы собрать денег на новый плащ или купить пару хороших башмаков.
Он отправил в рот последний кусочек гренка с помидором, и, допивая чай, почувствовал на губах чаинки. Закончив жевать, он закурил сигарету и еще раз оглядел людей, сидящих вокруг него. Пробило уже одиннадцать часов, и кафе потихоньку пустело: в нем осталось не больше двенадцати человек. До его слуха доносились разговоры за соседними столиками, и он понимал, что за этим столом говорят о породах лошадей, а за тем — о войне, однако эти слова проходили как бы мимо его сознания. Он все так же довольно и спокойно, отсутствующим взглядом продолжал смотреть на пустые столики, которые образовывали в комнате определенный узор. Ему совершенно нечего было делать до двух часов дня, поэтому он был не прочь провести в этом кафе остаток времени. Однако ему внезапно показалось не совсем прилично сидеть за столиком столько времени без еды, и поэтому он направился к прилавку за чаем и пирожными.
Пока его обслуживали, в кафе зашли две маленькие девочки. Одна отправилась выбирать место, а вторая, которая, очевидно, была старшей, пошла к прилавку. Когда он вернулся за свой столик, то увидел, что за ним сидит младшая из девочек. Он смутился и застеснялся, но несмотря на это сел на свое место, чтобы выпить чай, и разрезал пирожное на четыре части. Девочка подняла на него глаза и продолжала смотреть не отрываясь до тех пор, пока старшая не принесла две чашки несвежего чая — настоящие опивки.
Девочки пили чай и разговаривали, совершенно не замечая присутствия Эрнста, который, между тем, чувствовал, как его постепенно захватывает их естественное детское оживление. Время от времени он украдкой поглядывал на них, и ему казалось, что он им мешает, хотя он смотрел на них по-доброму, а его глаза улыбались. Старшая из девочек, лет двенадцати, была одета в коричневый плащ, который был для нее велик. Почти все время она весело щебетала и смеялась, но Эрнст заметил, что она выглядит слишком бледной, а ее большие, широко распахнутые глаза, показавшиеся ему такими красивыми, лихорадочно блестят от возбуждения, как бывает у детей, живущих в бедности и не ожидающих ласкового обращения. Младшая не была такой оживленной: она только коротко отвечала на вопросы, которые задавала ей сестра. Она быстро выпила свой чай и теперь грела руки о пустую чашку, так и не поставив ее обратно на стол. Старшая тоже сжимала свою чашку в худеньких, покрасневших от холода пальцах и пила из нее маленькими глотками. Постепенно разговор двух девочек затих и они продолжали сидеть молча. С улицы доносились звуки проезжающих мимо машин, а брюнетка-посудомойка гремела чашками и тарелками, спеша перемыть посуду до обеденного перерыва, когда в кафе нахлынут толпы людей.
Эрнст подсчитывал в уме, сколько ярдов кожзаменителя ему придется израсходовать, чтобы выполнить сегодняшний заказ, но когда младшая из сестер заговорила, он невольно стал вслушиваться в болтовню своих соседок.
«Альма, у тебя же есть еще деньги, купи мне пирожное.»
«У меня нет денег», — раздраженно ответила старшая.
«Нет есть, и я хочу пирожное.»
Та приняла строгий вид, даже, пожалуй, злой. «Тебе может хотеться сколько влезет, но у меня только два пенса.»
«Этого хватит на пирожное, — настойчиво повторила младшая, не выпуская из рук теплую чашку. — Нам не нужен автобус, мы пойдем домой пешком».
«Нет, мы поедем на автобусе: может начаться дождь».
«Пожалуйста!»
«Мне тоже хочется пирожного, но я не собираюсь добираться домой пешком», — ответила старшая тоном, не терпящим возражений, чтобы положить конец этому спору. Младшая уступила, ничего не сказав в ответ, и стала безучастно смотреть прямо перед собой.
Эрнст все доел и допил, достал сигарету, чиркнул спичкой о железную ножку стола, глубоко затянулся и выдохнул табачный дым через рот. И в этот момент его захлестнуло щемящее чувство одиночества, такое сильное, что он, наверное, не смог бы даже расплакаться. Обе девочки все так же сидели напротив него, и все так же спорили, что лучше сделать: купить пирожное или добираться домой на автобусе.
«Становится прохладно, — заметила старшая, — пойдем домой.»
— «Нет, я не хочу», — ответила младшая, но ее слова уже не звучали так убежденно, как прежде. Звук их голосков еще раз напомнил Эрнсту, насколько он одинок: каждое их слово заставляло его все сильнее ощущать собственную заброшенность, отчего он как никогда остро почувствовал всю безрадостность и пустоту своего существования.
Время тянулось медленно, минутная стрелка часов как будто застряла на месте. Девочки смотрели друг на друга и не замечали его; он снова стал думать о своей жизни, об окружающей его пустоте, и о том, чем заполнить ему все эти дни, которые проходят перед ним, как детали на сломанной конвейерной ленте. Он попытался вспомнить какое-нибудь событие из своей жизни и с ужасом обнаружил тридцатилетнюю пустоту. Его прошлое было как бы затянуто серой дымкой, а впереди все застилал густой туман, за которым, впрочем, ничего не существовало. Ему внезапно захотелось уйти из кафе и поискать такое занятие, которое могло бы оставить какой-то след в его жизни, как-то обозначить уходящие дни, но у него не было силы воли сдвинуться с места. Он услышал свой внутренний голос, который уговаривал его бросить эту бессмысленную затею. Вдруг он заметил, что младшая из девочек плачет, вытирая мокрые от слез глаза руками.