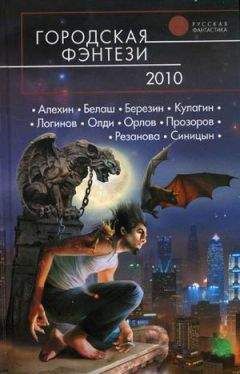Поезд делал остановку в Тремонт-Пойнтсе, Гринэйкрзе, Ласкаллсе, Медовейле и Клир-Хейвене. Дорога почему-то казалась Нейлзу невыносимой. Но ведь он тысячу раз ездил по ней. Отчего же это соединительное звено между домом и службой вызывало в нем теперь такое мучительное отвращение? У него вдруг появилась одышка, ладони сделались влажными, заныло под ложечкой, а темные стрелы дождя поражали его, казалось, прямо в сердце. Когда поезд поравнялся с Лонгбруком, Нейлз схватил плащ и, продравшись сквозь толпу входящих, соскочил на платформу. Поезд поехал дальше, а Нейлз очутился один на пустой пригородной платформе в половине десятого утра. Он укрылся от дождя в зале ожидания. Каждый день Нейлзу приходилось переходить из одной атмосферы в другую, переключаться с одного ритма на другой. Такая жизнь могла длиться лишь при наличии мостов между компонентами, ее составляющими. И вот один из главных его мостов — тот, что связывал белый домик, в котором он жил, с конторой,— вдруг обрушился. Конечно, Нейлзу недоставало мужества. Да, но как его обрести, откуда взять? Усилием воли его не вызовешь, это ясно. В лотерею не выиграешь, не вытребуешь по почте наложенным платежом. И оно сойдет на тебя как небесная благодать? На платформе начал собираться народ — черед пятнадцать минут прибывал следующий, тоже местный, поезд. Навязав себе некий суррогат бодрости, он сел в вагон. Ему пришлось сойти через две остановки. Так, пересаживаясь почти на каждой станции, он, наконец, совершил свое мучительное паломничество в город.
Вечером после ужина Нейлз налил себе виски, почти не разбавляя, и со стаканом в руке поднялся к Тони. Он сел у изголовья сына, как когда-то, когда Тони был маленьким и он читал ему «Остров сокровищ».
— Как ты себя чувствуешь, сынок?
— Да все так же.
— Ужинал?
— Да.
— В воскресной газете развели какую-то тягомотину, будто ваше поколение считает, что цивилизация зашла в тупик. Ты тоже думаешь, что цивилизация зашла в тупик?
— Нет, я этого не думаю.
— И ты не думаешь, что твоя болезнь связана с этим?
— Да нет же, я люблю жизнь, общество. У меня просто тоска, вот и все.
- Да, конечно, причин для тоски, как поглядишь, достаточно, но меня злит, что все только и делают, что нападают на обитателей пригорода. Никак не пойму, чем мы это заслужили. Взять театр — там вечно издеваются над пригородными жителями, а что, собственно, порочного в том, что человек играет в гольф или разводит цветы? Жизнь здесь дешевле, к тому же я бы, например, совсем пропал без воздуха и без движения. Почему-то считается, что между респектабельностью и нравственной чистотой должна существовать какая-то связь. Но ведь это чушь. Взять, к примеру, меня. Разве, надевая свежую рубашку, я этим самым провозглашаю свою душевную чистоту? Одно с другим ничуть не связано. Безобразия творятся повсюду, и если человек, который разводит цветы, попадает в скандальную историю, неужели из этого следует, что разводить цветы порочно и безнравственно? Возьми хотя бы этого самого Чарли Стрингера — в прошлом году его судили за то, что он рассылал порнографические открытки по почте. Он называет себя издателем и, судя по всему, занимается изданием грязных картинок. У него на Хансен-серкле особнячок в стиле «Тюдор», где он живет со своей хорошенькой женой, тремя детьми и двумя пуделями. На участке цветник, газон, деревья. Все, конечно, кричат: «Смотрите, смотрите, каким он прикрывается пышным фасадом, чтобы торговать своей похабщиной!» Но при чем тут все это, я спрашиваю. Или человеку, который торгует всякой нечистью, непременно и жить в помойной яме? Он подонок, не спорю, но почему бы подонку не поливать газон и не играть со своими ребятишками в мяч?
Мы ужасно любим говорить о свободе и независимости. Если бы ты захотел определить нашу национальную задачу, ты вряд ли обошелся бы без этих слов. Президент постоянно говорит о свободе и независимости, армия и флот только и делают, что защищают свободу и независимость, а по воскресеньям отец Рэнсом благодарит бога за нашу свободу и независимость. Но мы-то с тобой знаем, что черные — те, что живут в своих спичечных коробках вдоль Уэконсета,— не пользуются ни свободой, ни независимостью и не могут выбрать себе по душе ни профессию, ни жилье. Чарли Симпсон — отличный малый, но ведь и он, и Фелпс Марсдел, и с полдюжины других известных богачей Буллет-Парка наживаются благодаря сделкам с Салазаром, с Франко, с бельгийскими захватчиками в Катанге и прочими военными хунтами. Они больше всех болтают о свободе и независимости, а сами поставляют деньги, оружие и экспертов для того, чтобы подавлять свободу и независимость. Я ненавижу ложь и лицемерие — в самом деле, глядя на наше общество, которое терпит всех этих обманщиков, не мудрено затосковать. А ты думаешь, я, располагаю свободой и независимостью в той мере, в какой бы хотел? Да нет. Еда, одежда, личная жизнь и сами мои мысли в значительной степени регламентируются кем-то сверху. Впрочем, подчас я даже радуюсь, когда мне говорят, как я должен поступать. Я не всегда способен решить, что правильно, а что нет.
Заглянешь в газету — и не знаешь, что думать. Там тебе показывают умирающего в болотах и джунглях солдата, а рядом — на той же странице — реклама изумрудного перстня в сорок тысяч долларов или, скажем, накидки из соболей. Конечно, наивно говорить, что солдат отдал жизнь за соболя и изумруды, но когда день за днем тебе показывают этого солдата и рядом — изумруд и соболя... Или взять гомосексуализм. Нынче всюду об этом читаешь, и я не знаю, как к этому относиться. Мне хотелось бы, чтобы этого просто не было. Когда я еще не состоял членом Клуба химиков, мне приходилось пользоваться туалетом на Центральном вокзале, и всякий раз ко мне липла эта дрянь. Однажды, когда я поднимался по лестнице, ко мне подошел один тип и взял меня под руку. На мне была сорочка от Брукса, шляпа, купленная у Локка, и туфли из магазина Пила. Я одеваюсь как можно респектабельнее, чтобы сразу, было видно, что я не тот, за кого меня принимают. Я выдернул руку и ушел. Я не дал ему пощечины. Да я и не видел его лица. У них вообще никогда лица не увидишь, И вступил-то я в Клуб химиков только для того, чтобы в городе было где оправиться, не боясь последствий. Разумеется, никакой я не химик, и внедрять зубной эликсир не такое уж вдохновляющее занятие, но как подумаешь обо всех нуждах человечества, понимаешь, что кому-то этим заниматься надо. Всякие там лезвия, мыло, яичница с грудинкой, бензин, железнодорожные билеты, вакса для обуви... Нужно же, чтобы кто-то это производил. Ведь правда, Тони, а? Тони!
Тони спал.
Нейлз прикончил виски и окинул спящего сына влюбленным взглядом. Тони родился в Риме, где Нейлз работал в лаборатории НПСО[1]. В тот вечер Нейлз перевез Нэлли через реку и доставил ее в международную больницу. Толстяк доктор выверил по часам интервалы между схватками и велел Нейлзу приехать в половине одиннадцатого. Когда Нейлз вернулся, у него взяли кровь, чтобы определить группу. Для чего — ему не сказали. Затем появился его приятель с бутылкой шотландского виски и пачкой американских сигарет — в те годы и то и другое было дефицитом. Больничные сестры не чинили никаких препятствий и даже, напротив, принесли им стаканы и лед. В полночь приятель Нейлза уехал домой. Около трех утра в приемной показался доктор. С него лил пот, и лицо его выражало тревогу.
— Она в опасности? —спросил Нейлз.
— Да,— резко ответил доктор.— Она в опасности. Жизнь — опасная штука. Почему это американцы так жаждут бессмертия?
— Доктор, скажите мне все. Пожалуйста! — попросил Нейлз.
— Я вам вот что скажу: если она выберется из этой истории, я советовал бы ей больше не рожать.
В парке через дорогу прохаживались павлины. На рассвете они принялись кричать. Нейлз усмотрел в этом какое-то знамение. В восемь утра доктор вновь к нему спустился.
— Пойдите прогуляйтесь,— сказал он.—Отключитесь. Подышите воздухом.
Нейлз спустился к собору св. Петра и, помолившись, поднялся по лестнице на крышу, где гигантские святые и апостолы стояли к нему спиной. Нейлзу Рим нравился. Но в этот час он показался ему зловещим городом — городом Волчицы. Рим убьет его Нэлли. Ее судьба причудливым образом переплелась с кровавой историей этого города. Рим убьет, уничтожит его Нэлли.
Нейлз зашагал по улицам, надеясь, что тревога и боль выйдут вместе с испариной. На окраине ему повстречался старик, торговавший черепами и фаллическими символами. Нейлз дошел до зоопарка и выпил бокал «кампари» в кафе; в клетке напротив какие-то хищные птицы клювами разрывали сырое мясо. Выйдя из кафе, Нейлз увидел гиену, а за ней клетку с волком. Когда он вернулся в больницу, сестричка поздравила его с сыном, который весил восемь фунтов, и сообщила, что жена его уже вне опасности. Нейлз чуть не взвыл от радости и, шатаясь как пьяный, принялся ходить по приемной, В тот же вечер его впустили к Нэлли, и он впервые увидел сына —это был прекрасный мальчик, требовательный, полный жизненных сил. Много позже Нейлз и Нэлли совсем было решили усыновить еще одного ребенка, чтобы Тони не рос один, но в последнюю минуту мысль, что ему придется делить власть над их сердцем с каким-то найденышем, показалась им обоим невыносимой.