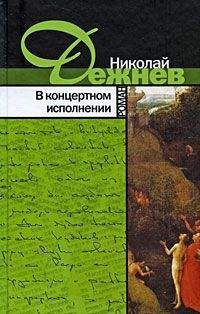Миледи подошла, остановилась перед ним.
— В одной из прежних жизней вы были актером?
— Не угадали. — Он поднялся с ручки кресла. — Я по природе сочинитель, но мой театр другой. В нем ставят пьесы, последний акт которых неизвестен даже драматургу.
Свет со сцены струился призрачно-зеленый, фантастические тени застыли в бархатной глубине лож. Где-то в чреве театра часы пробили полночь.
— Что ж, в таком случае вас может заинтересовать одна история. — Миледи смотрела на него без тени улыбки. Ее красивое строгой красотой лицо было задумчиво и печально. — Она про нас с вами, и, как вы уже догадались, история эта… Да, это история моей любви! Театр одного актера для единственного зрителя.
Миледи повернулась, взошла на сцену, как королева могла бы взойти на эшафот. Лукарий опустился в кресло. Высоко на балконе третьего яруса сам собой вспыхнул софит, выхватил из аквариумной мути стройную фигуру, рассыпавшиеся по плечам каштановые локоны. Миледи заговорила, голос ее в пустоте театра звучал глухо:
— Я родилась в Лангедоке, на юге современной Франции. Маленький городок, где прошло мое детство, ютился у подножья гор Севены. Дом отца стоял в самом его центре, окнами на площадь, и над ним, как над всем городом, нависал своей громадой собор. Склон горы порос дубами, а выше — буком и каштаном, и я часто убегала в лес и проводила там дни напролет вдали от людей и крестов. По воскресеньям, стоя под гулкими сводами собора, я испытывала какой-то первобытный, животный страх. Я чувствовала себя песчинкой, ничтожной мошкой, брошенной в огромный враждебный мир, и даже цветное пятно витража меня не радовало.
Самым страшным в то время было слово «еретик». Давно сошел в могилу основатель ордена святой Доминик, «бедные католики», превратившись в доминиканцев и францисканцев, расползлись по всем углам Европы, а в Лангедоке продолжали пылать костры, и во имя Христа, пряча под капюшоном лицемерную улыбку, отец-инквизитор просил Его оказать милость заблудшим душам. Кто просил милосердия, кто милостыню… По узким каньонам улиц шли прокаженные, ударами палок возвещая о своем приближении и протягивая к горожанам изъязвленные обрубки рук. К ночи они возвращались в холодные, жуткие от непрерывных стонов дома и валились на пол. Прислуживали им все те же доминиканцы, те самые страшные и неприступные братья во Христе, что тысячами посылали людей на костер. Таков был горький вкус того времени, так проверяли веру!
Будто разом озябнув от воспоминаний, миледи плотнее закуталась в плащ.
— В праздники, — продолжала она, — на площади перед нашими окнами собиралась толпа. Люди стояли молча в ожидании аутодафе, и лишь мальчишки шныряли между ними в поисках мелкой монетки. Наконец по морю голов прокатывалась волна, в наступившей тишине резко звучали слова команды, и солдаты оцепления плотнее сжимали кольцо вокруг осужденных. Мать уводила меня от окна, и, забившись в самый дальний угол дома, мы молились до исступления, умоляя доброго Боженьку принять души несчастных. В маленькой, с низким потолком комнатке горела свеча, было жарко и тошнотворно пахло воском. Проходила вечность. Скрипела дверь. На пороге стоял отец. Все было кончено!
Однажды, это был праздник святого Симеона Метафраста, толпа на площади начала собираться с самого утра. В такие дни мне было запрещено выходить из дома, но я ослушалась. Мне хотелось убежать в мою дубовую рощу, хотелось дышать воздухом ранней весны. Я хорошо помню этот день. Яркий солнечный свет ласкал уставшую от длинных зимних сумерек землю, и высокое, невероятной голубизны небо манило меня в свои глубины. Мне казалось, люди могут научиться летать. Улучив момент, я выскользнула из дома и побежала по улице к городским воротам, откуда начиналась моя тропинка в леса. Я и сейчас кожей чувствую холод того утра, заползавший мне под плащ, где я прятала свой обед — ржаную лепешку. Улица вела вниз, и я бежала, стараясь не встречаться глазами с идущими навстречу людьми, как вдруг что-то заставило меня поднять голову, и я увидела ее. Это было как удар! Я, совсем еще ребенок, вдруг поняла: происходит нечто, что изменит всю мою жизнь. Там, через улицу, в глубине грязного двора, у примыкающего к трактиру забора на повозке стояла клетка. В таких клетках бродячие циркачи возили напоказ зверей. На этот раз в ней сидело существо, в котором с трудом можно было узнать женщину. Толпа зевак переминалась поодаль, тыча пальцами в сторону повозки и скаля щербатые рты. Я почувствовала, как ноги мои сами собой замерли, и уже в следующий момент неведомая сила неотвратимо повлекла меня к несчастной. Кто-то пытался меня удержать, хватал за край плаща, но я вырвалась и вплотную подошла к клетке. Женщина сидела, безучастно глядя на юродствующую толпу. Лицо ее, обрамленное длинными, пегими от седины волосами, было удивительно спокойно. Я протянула ей лепешку. Она лишь покачала головой, с трудом улыбнулась спекшимися, пересохшими губами. Просунув сквозь прутья руку, она провела ладонью по моим волосам. Я и теперь вижу ее глаза — черные, сухие, с лихорадочным блеском. Грязь на лице смешалась с подтеками крови, но ничто не могло изуродовать ее красоту.
— Ты малышка, — сказала женщина, с трудом открывая рот, — тебе не понять, но запомни мои слова. Когда ты вырастешь, меня уже не будет, но мир останется прежним. В нем стоит жить только для того, чтобы познать любовь. Если любишь, никого не бойся. — Она облизала пересохшие губы. — Я дарю тебе мою любовь, я ее тебе завещаю!..
По ее впалым щекам покатились две медленные слезы. Заскорузлой от грязи и крови рукой женщина провела по моему лицу, будто хотела запомнить его черты на ощупь.
— Ты будешь красивой… Знаешь, я могла бы купить себе жизнь ценой предательства, но я не смогла…
Не знаю, видела ли она, но ее глаза смотрели мне прямо в душу. Я поняла: она ждет от меня подтверждения своей правоты.
— Боженька, — прошептала я, — миленький Боженька! Я молю Тебя, я отдам Тебе мое серебряное колечко — спаси ее!
Она покачала головой:
— Поздно, для меня все поздно! Теперь будешь любить ты!
Она хотела еще что-то сказать, но тут из трактира вывалилась пьяная солдатня. Меня отбросили к толпе зевак, а над ней принялись издеваться, тыча сквозь прутья тупыми концами пик. Она сносила страдания молча, а когда повозка тронулась в ее последний путь, нашла меня взглядом и все пыталась улыбнуться, но не смогла…
Ее сожгли в полдень при большом скоплении народа. Инквизитор-доминиканец отказал ей в последней милости, и ее возвели на костер живой. Потом мне рассказали, что донес на нее ее любимый. Она знала об этом и все же благодарила Бога за свою любовь!..
Миледи опустилась на доски сцены, обняла колени руками. Пятно прожектора последовало за ней, но вдруг пропало, как будто почувствовав свою ненужность. Крошечная фигурка замерла на краю огромной распахнутой коробки в аквариумном мареве света.
— Что было дальше? — Женщина посмотрела в полутьму партера. — Дальше была жизнь. Тягучий сон, который по недоразумению называется взрослой жизнью. Но не проходило и дня, когда бы я не вспоминала о ней и не молила за нее Господа. Единственное, чего я не могла понять, куда подевалось мое наследство — завещанная мне любовь? Муж мой, хоть и знатного рода, мало отличался от животного, впрочем, как и его окружение. Сказать, что он был мне противен, значит ему польстить: я ненавидела его тупое тщеславие, меня бесили ущербность его ума и неразвитость чувств. Добавьте к этому патологическую скаредность, пьяное буйство и тягу к потаскушкам, и вы поймете, почему однажды я не сдержалась и подсыпала ему в еду добрую порцию крысиного яда. Впрочем, я и сама была отравлена ожиданием любви. Впоследствии я, естественно, все отрицала, но это не помешало им поступить со мной, как того требовала традиция, и меня, в назидание потомкам, замуровали в стену… Но и потом, став привидением, я не переставала искать то, что принадлежало мне по праву, но нашла я лишь предавшего ее человека. Он жил в чужом городе, в большом доме у теплого моря. Однажды душной южной ночью я пришла в этот дом, чтобы совершить месть. Затаившись за шторой, я наблюдала за сидевшим у камина стариком. Он не отрываясь смотрел в огонь. На какой-то миг мне даже показалось, что он мертв, но нет, он был жив, и нечеловеческая радость охватила меня при мысли, что через минуту он сойдет с ума. Собрав все силы, я жутко застонала, завертелась вихрем, понеслась вскачь по комнате, расшвыривая мебель и опрокидывая посуду. Мой безумный танец был ужасен, страшные черные тени метались по стенам. Я обнимала его ледяными руками, дико хохотала, рыдала и выла волчицей, но он сидел все так же безучастно, лишь следя за мной пустыми, невидящими глазами. Его губы едва заметно шевелились, он молился. Он молился о ней. Тогда я опустилась в кресло напротив и стала слушать. Старик умолял Господа взять его жизнь и послать вечное блаженство той, о ком он не переставал просить Его все эти годы. Наконец он замолчал.