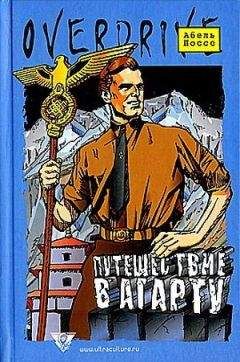Однако мне повезло, меня приняла семья индейцев, обитавших среди холмов в центре Мальадо и собиравшихся вскоре покинуть побережье острова, где они зимовали. То была семья самого касика — он за мной понаблюдал, посмотрел мне глубоко в глаза и решил, что я останусь с ними. Они готовились возвратиться на север, в страну гигантских коров и быстрых оленей.
Мне предстояло прожить с ними шесть лет моей жизни.
— Шесть лет! Так много! — воскликнула Лусинда, заметив, что я скорее расположен обойти их молчанием, как я сделал в «Кораблекрушениях». — Шесть лет! — Ее изумление наивно, однако так же логично, как у недоверчивого Фернандеса де Овьедо, посетившего меня.
Перечитывая теперь свою книгу, я нахожу, что задача умолчания об этих шести годах решена там на полутора страницах — достаточно беззастенчиво и прозрачно, как бы лишь для того, чтобы тупые инквизиторы Королевской Аудиенсии и Совета Индий ничего не заподозрили. Глупцов надо ошарашивать абсурдом, ему они охотнее всего верят. Я посмеялся над своей дерзостью: я написал, что терпел шесть лет рабства, так как ждал, пока Лопе де Овьедо, офицер Нарваэса, излечится от своей болезни. Я выглядел там как самоотверженный христианский рыцарь. Между тем мне довелось видеть смерть 585 из 600 солдат Нарваэса. Я вовсе не собирался отдавать шесть лет жизни, причем жизни в рабстве с риском гибели, ради человека, которого я едва знал и который, когда я начал, вернее, продолжил мое путешествие на запад, в противоположную от Испании сторону, предпочел остаться с женами-индеанками и испробовать свои земледельческие способности в надежде разбогатеть на выращивании фасоли. Об этом я, разумеется, ничего не рассказал.
— Как сильно ваша милость любили своего друга! — воскликнула Лусинда, и, полагаю, воскликнула без иронии, потому что очень молода и невинна.
Но я не могу рассказать ей то, чего она не поймет или не сможет одобрить. Только себе самому могу я рассказать свою подлинную жизнь. Точнее, многие жизни того, другого, который вечно ускользает и переряжается, как злостный преступник, разыскиваемый властями и добропорядочными людьми.
И мне приятно теперь встретиться с этим другим тех лет под огромным безоблачным чужим небом. Вот он появляется, и, кажется мне, я отчетливо представляю себе очертания его тела. Он приближается ко мне в долгие жаркие ночи Севильи по плоской крыше, где я заполняю эти странички при свете лампы, которую мне оставляет донья Эуфросия с замечанием; «Там масла ровно столько, чтобы не было чада и чтобы не сгорел фитиль».
Думаю, я мог бы сбежать от индейцев мараме, а потом от семьи племени чорруко. Но я даже не пытался.
Тайный голос искушал меня продолжать движение вслед за солнцем, в направлении, противоположном моему миру.
— Ты здоровый. Ты можешь пригодиться, — сказал мне касик на своем языке, который я уже начал лучше понимать (языки разных племен едва различаются. Со временем я изучил их около шести, по одному в год…).
Это было любопытное племя. В своем поведении они сохраняли твердое презрение и недоверие к человеческому роду. Большую часть новорожденных девочек отдавали на съедение собакам. Объяснение было простое: поскольку кровосмешение не допускалось, так как от него вырождается раса, женщины часто остаются без мужей и их оплодотворяют мужчины других народов и племен. В любом случае будут рождаться враги.
О женщине они были самого низкого мнения, за это их надо похвалить, ибо в этом они мало чем отличались от испанцев. Женщины выполняли самые тяжелые работы, и им разрешалось отдыхать всего часов шесть в день. Мужчины полагали неразумным оставлять им много времени для их женских козней. Что касается стариков, индейцы чорруко считали себя, не без скромности, наследниками мудрости предков, согласно которой старикам полагалось умирать возможно раньше. Ведь они знали, что всякий человек, достигший старости, в какой-то мере уже мертв, и, если ему удалось выжить, он этим обязан своим дурным качествам, а не своей доброте. Отнюдь не считалось большим грехом уморить старика, перегрузив его тяжелой работой. Есть им давали только в том случае, если оставалась пища, предназначенная для детей.
Эти американцы — после Вальдзеемюллера[61] следует их так называть — не придавали большой важности ни еде, ни выживанию. Долгая жизнь скорее почиталась уделом посредственности. Воинственный вождь или великий жрец считал честью не пережить тридцати лет (правда, годы они считали довольно своеобразно, ибо у них нет понятия о времени и о старости, сравнимого с тем, которое терзает европейцев).
Для них важными считаются священные пляски, празднества, ритуальное пенье со сладострастными танцами. Они пьют сок корней странных ягод и грибов, которые вызывают опьянение, имеющее характер скорее ритуальный, религиозный, чем простое веселье каталонских или баскских пьяниц.
Детей, которым позволяют выжить (их немного), почитают как истинных божков. Они пользуются вниманием и привилегиями до того возраста, когда им предстоит разделить труды и славу взрослых, проявлять мудрость и храбрость. Обряд посвящения очень суров. Те, кто желает стать военным вождем, должны наносить себе раны почти смертельные, а затем уметь их излечивать и выздоравливать без посторонней помощи, в одиночестве среди неприветливых лесных чащоб. Многие умирают. Те, кто выживает, обретают власть.
В хорошие сезоны индейцы чорруко питаются нежной олениной и мясом диких коров. В трудные времена, не жалуясь и не ропща, едят то, что родит земля, без излишних кулинарных претензий: муравьиные яйца, червей, ящериц, змей, даже гадюк менее ядовитых пород. Если приходится туго, едят также мягкое лыко содранной коры, чернозем и оленьи испражнения. Когда же и этого не находят, у них есть в запасе истертые в порошок рыбьи и другие кости — порошок этот они хранят в закопанных в землю кувшинах. Его смешивают с порошком листьев и кожуры плодов, из чего варят вполне питательную похлебку.
На войне они жестоки и по-спартански неприхотливы — во время походов воины сберегают собственные ежедневные испражнения и в случае необходимости потчуют ими один другого.
Как я говорил, я провел с этими людьми шесть лет. Их сила заключается в том, что они принимают мир таким, каков он есть, и живут, не придавая большого значения привязанностям, качеству пищи или напастям, посылаемым Богом или людьми. Вот почему они сильны, свободны, и еще теперь, спустя несколько десятилетий, я вспоминаю их с неизменным уважением. Пляшут они постоянно.
Касик Дулахан вознамерился вернуть меня космосу. Он предположил, что я обладаю необычными способностями и знаниями, и потому не мог понять моей физической беспомощности, моей меланхолии, моего воздержания при священных возлияниях. По-моему, он был убежден, что я выпал из космического ритма, как рыба, агонизирующая вдали от воды. Наверно, это побуждало его к некоему деятельному милосердию, ненавязчивой опеке.
Прошло несколько недель, и я обрел уверенность, что меня не стараются откормить для ритуального жертвоприношения. Я даже заметил со стороны касика некоторую симпатию. Несомненно, ему вначале было любопытно понять людей, прибывших с другого края мира, о которых в землях Карибского моря имели самые противоречивые представления, колебавшиеся между верой в возвращение бородатых цивилизованных богов — воплощения Кецалькоатля — и отношением к ним, как к нечестивым «цициминам», демонам-карликам, вышедшим из моря, способным на любое преступление, одержимым неуемной похотью, жадным грабителям, почитающим бога, когда-то осужденного на смерть на кресте по не вполне понятной и неверно истолкованной причине, ибо — как повторяли сами бледнолицые варвары — даже народ предпочел отпустить на свободу вора, убийцу, но только не его.
После внимательного наблюдения Дулхан, кажется, начал понимать, что физически я более или менее способен исполнять те же работы, что он и его люди. В смысле проявлений горя и радости и отношения к окружающим я, видимо, не казался ему существом слишком необычным. Вначале его сильно смущала моя борода, так как индейцы преимущественно безбородые. Однажды он не сумел устоять перед искушением и два-три раза дернул, чтобы узнать, настоящая ли она или приклеенная, как искусственные бороды, какими пользуются комедианты в своих представлениях. Но особливо привлекали внимание касика и его ближних мои ногти. Они поражали их своей слабостью, и более всего ногти на ногах — у индейцев они твердые и желтые, как клыки тигра. Мои ногти изумляли их своей хрупкостью. Наверно, казались им чем-то вроде поддельных мечей, которые теперь продают новым богачам вроде Фонтана Гомеса, похваляющимся, будто тот или иной меч принадлежал их никогда не существовавшему деду-воину. Мои ногти не могли поддержать меня, когда я карабкался на дерево, не могли очистить твердую кожуру плода, чтобы добыть съедобную мякоть. Вдобавок они не понимали, почему мне не нравятся зеленые черви, раздавленные на лепешках из листьев, испеченных на раскаленных камнях, и я предпочитаю лепешки без начинки. Удивлялись они также, почему я убиваю морских раков и снимаю с них панцирь, прежде чем есть. Индейцы их ели живьем и даже забавлялись недолгим трепыханием раков во рту.