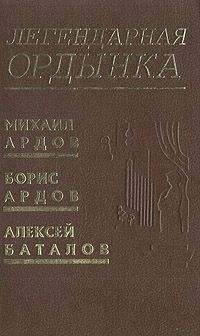По крайней мере, так показалось Араму, который смотрел на вещи как ребенок, наделенный гением, но таким гением, который никто, за исключением Тобиаса Ласнер-Эггера, в нем пока еще не распознал.
Арам, стало быть, обращается к своему видению Спа, к тому, что запечатлела его память. Замкнутый мир, без ощутимых изъянов, курортники, собирающиеся, словно в антракте, в одни и те же часы, под самой люстрой и на ступеньках большой, в два полных витка, лестницы. Откуда они приехали? — спрашивает он себя сейчас, вновь видя их перед собой. И что между ними было общего, если не считать заботы о своем здоровье?
Когда несколько месяцев спустя война разрезала Европу надвое и он оказался теперь уже в Италии, но по-прежнему с Арндтом, устремившимся в погоню за все более и более жалкими, а потом и совсем нулевыми сборами, этот образ Спа ассоциировался в его сознании, всякий раз, когда он о нем вспоминал, со сладостью земного существования. Именно поэтому он и возникал перед ним время от времени. Все эти люди в холле, у которых был вид, словно они вышли на переменку, на расстоянии кажутся ему бесконечно симпатичными, несмотря на то, что чрево занимало в их заботах слишком большое место. Ведь в конечном счете это была та самая публика, которая им аплодировала. Привычная публика «Ласнер-Эггера», состоявшая не из почитателей Моцарта либо Вагнера и не из любителей скачек либо охоты и прибывшая туда не для рыбной ловли спиннингом и не для стрельбы из лука, а единственно с целью лечить свои воображаемые либо неизлечимые болезни.
Спа ассоциировался в его сознании также с одной разбитной юной девицей, которая все время следовала за ним по пятам и которая, если их совместные упражнения — упражнения, где она сохраняла за собой инициативу, — признать достаточно убедительными, лишила его, как тогда еще говорили, иллюзий. Мисс Котильон!.. Он запомнил ее под таким именем. Возможно, оно досталось ей в качестве премии во время танцевального конкурса, организованного в зимнем саду.
Как бы то ни было, но перед лицом угроз, которые тогда трудно было обойти молчанием либо отодвинуть заботами о желудке, некоторые голоса выражали невозмутимую жизнерадостность. Однако эта несокрушимая бодрость порождала чувство какого-то поразительного разлада с реальностью. Араму, вероятно, было трудно отличить истину от фальши в этих мифах и миражах. Разве что некоторые из разговоров позволили ему воочию убедиться, как этот оптимизм рассыпается от малейшего дуновения, подобно цветку чертополоха? Голубого чертополоха. Серебристого чертополоха, ослиного чертополоха: Все эти голоса, слившиеся в порыве общей иллюзии, воспринимаются им как один голос, выражающий ту эпоху, оценить которую в полной мере он тогда не смог из-за отсутствия свободного времени. И что он слышит, что снова улавливает, так это все тот же невнятный шелест, когда-то слышанный им в большом холле в Спа. Для него это словно навязчивый мотив той эпохи, который он называет «Кредо мисс Котильон». А звучит он вот так:
«Верю в фей, в Белоснежку, в Уолта Диснея, в стиральную машину, в электрические щипцы для завивки волос. Верю в Розамунду Леман, в витамины, в бридж, в Тино Росси, в Шарля Трене, в Ивонну Прентан, коей слишком много весен.[18] Верю в стройки, обещанные кардиналом, в Скарлетт О'Хару, в доктора Фрейда и в крем «Токалон». Верю в Коко Шанель и в магистра Пачелли… Верю… Верю…»
Арам больше никогда не возвращался в Спа. После войны Тобиас отсек бальнеологию. «Неужели я это все запомнил? — спрашивает он себя. — Я придумываю. Я сочиняю. Когда началась война, мне было двенадцать лет».
Ни разу не было, чтобы Арам, возвращаясь в Гштад, не поднялся тотчас же на двенадцатый этаж отеля поприветствовать Джузеппе Боласко в его башенке.
В Гштад, где вот уже четырнадцать лет в своем знаменитом мавзолее, похожем на взбитое мороженое с клубникой, не тающее даже на солнце, покоится учредитель, родоначальник. В монументальном сооружении, расположенном в сотне метров от того места, где как-то стыдливо, на скорую руку закопали пихтовый гроб, куда не без труда поместили скрюченное тело Боласко.
Будучи специалистом по судьбам, Тобиас настолько эффективно повлиял на судьбу этого человека, что оба они оказались на одной и той же погребальной шахматной доске, расположившись валетом, но, правда, на некотором расстоянии друг от друга, словно и здесь, на этом пространстве, тоже разделенном на белые и черные клетки, случай должен был указать на невозможность спутать эти два бытия. Их сближение выглядело тем более необычным, что они никогда друг с другом не разговаривали, хотя, правда, несколько раз их пути пересеклись, но, как казалось, случайно и вроде бы без последствий. Джузеппе Боласко, однако, считал необходимым подчеркнуть: все произошло помимо его воли, в результате целой цепи случайностей, цепи, подобной которой после Вазари не встречалось в жизни ни одного художника. И, возможно, в глубине души он злился на «старика», как он его называл, за то, что тот поместил его на этом насесте и превратил в своего рода столпника, из тех, что жили на вершинах колонн, который, однако, вместо горячих молитв, обращенных к четырем странам света, занимался бесконечным и до безумия тщательным воспроизведением на полотне, квадрат за квадратом, на протяжении всей своей собачьей жизни одного и того же мотива, одного и того же сюжета.
Дело в том, что это именно у Тобиаса возникла идея — полвека тому назад — засунуть его на эту верхотуру вместе с мольбертом, кистями, красками и холстом, по своим размерам точно совпадающим с картиной, которую этому приехавшему из Италии и до этого занимавшемуся в цокольном этаже мытьем посуды, ощипыванием птицы, полировкой серебра, чисткой овощей юноше предстояло воспроизвести. Раму (271 х 232 см) пришлось поднимать с помощью блока по фасаду, огибая балконы, потом втаскивать ее боком через одно из отверстий этого панорамного фонаря, превратившегося таким образом в импровизированную мастерскую. Операция впоследствии повторялась многие десятки раз, так что блок висел там постоянно на конце кронштейна, словно перед окном амбара, через которое загружают зерно.
Поначалу речь шла о временном размещении. Нужно только было сделать по методу квадратов копию одной картины, висящей в нижнем салоне, на которой помешался один клиент. Это был набитый золотом гватемалец, причем отнюдь не из породы просвещенных любителей искусства, а — судя по тому, что его интересовал только сюжет, — всего лишь фанатичный почитатель Наполеона, поднявший большую шумиху, чтобы удовлетворили его прихоть. А прихоть эта предполагала, чтобы ему нашли здесь, и немедленно, копировщика, способного выделить мотив с лошадьми и тщательно его воспроизвести, что, естественно, легче осуществляется в галереях Лувра и мюнхенской Пинакотеки, чем в Гштаде, будь то даже в отеле Ласнера. Но Тобиас свято поклонялся правилу никогда не говорить клиенту «нет». И поэтому он легко дал себя убедить, что существует такой юноша, известный своими настенными рисунками, сделанными в подвалах, и листками с эскизами, везде остающимися после него в нарушение традиционной для репутации Швейцарии чистоты. Конечно, оказать доверие этому юному мазилке, бросающему вот так на ветер свои рисунки, значило играть по крупной. Однако у дирекции «Ласнер-Эггера» не было никакого другого выхода: рискнуть холстом с заранее заданными размерами либо потерять клиента. Посмотрим, что этот рыжий юнец, которого занесло в Гштад, сделает из всадника и лошади, филигранно выписанных на картине. Ведь в действительности модель, предложенная Джузеппе, в свою очередь, была всего лишь работой одного копировщика, прикрепленного (?) к Берлинскому музею, который тщательно, миллиметр за миллиметром, перенес все то, что ему позволяла сначала различить, а затем сделать его лупа. Поскольку оригинал — сейчас находящийся в Шарлоттенбурге — также был скрупулезно изготовленной и вылизанной копией, то еще один копировщик вполне в состоянии сделать то же самое. Так, очевидно, рассуждал Тобиас, который, создав цепь отелей, где каждое звено пользовалось в принципе равным престижем, склонялся к мысли, что воспроизвести можно любой архетип. От Джузеппе требовалось, чтобы он сделал «подобие», в точности повторяющее произведение, в свою очередь тоже «подобие» картины Давида или кого-то там еще. То есть нужно было всего лишь выполнить трюк! Вопрос охоты и прилежания. Как истинный швейцарец, знающий монетам цену, Тобиас, вероятно, полагал, что для девятнадцатилетнего болонца это просто подарок судьбы — его не интересовало, как он тут очутился, — и что ему гораздо лучше заняться такой скрупулезной, как у часовщика, работой, чем мыть тарелки и драить птичьи гузки. Парню на это потребуется время. Ему будут подавать наверх еду, и он должен благодарить судьбу. Клиент же, со своей стороны, должен набраться терпения и продлить свое проживание, что, естественно, выгодно для отеля. Вся эта маленькая игра могла длиться недели, месяцы. Она стала первым звеном в цепи иного типа, чем изобретенная Тобиасом цепь отелей, и протянулась на деле до самой его смерти и даже далее.