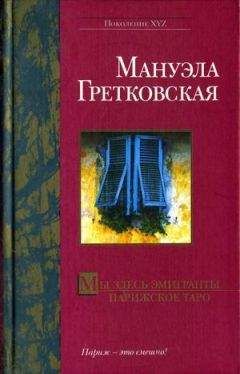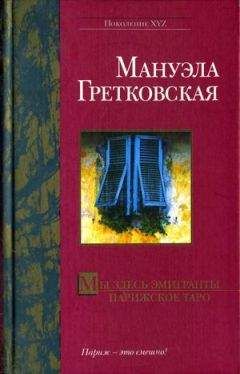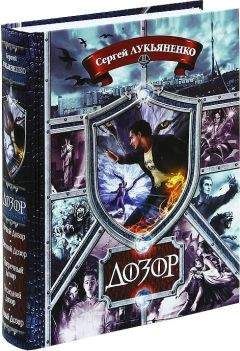— Они разговаривают? — спросила я заглядевшегося на реку продавца.
Тот не оборачиваясь, словно загипнотизированный проплывавшими в тумане пароходиками, ответил, что это еще птенцы, их надо учить. Мне захотелось купить одного неоперившегося уродца.
— Четыреста франков, — ответил торговец, провожая глазами исчезающую барку.
— Слишком дорого, — торговалась я.
— Скворцы живут минимум два года, получается двести франков в год за штуку, — спокойно подсчитал тот.
— Мы еще подумаем, — попрощались мы с меланхоличным продавцом.
Михал натянул мне на глаза капюшон, обмотал шею шарфом и велел возвращаться домой:
— Никаких друзей, никаких бистро. Приготовь ужин. Подождите с Габриэлью нас, только, умоляю, не la pasta italiana, я мечтаю об обыкновенной отбивной.
От Лез Аль я доехала до Гар дю Нор, оттуда через Барб и Пигаль до Бланш. Во дворике пахло лимонами. Консьержка — португалка, как и большинство парижских консьержек, — драила тротуар и стены рисовой щеткой.
— Bonsoir, madame[23] Аззолина, как приятно пахнет ваша уборка.
— Bonsoir, bonsoir, madame. Это праздничная уборка. — Она поддернула манжеты белой блузки и прислонилась к стене.
— До праздников еще целый месяц.
— Можно подумать, вы не в Париже родились. — Она поправила шов на черном чулке. — Если наряжают елки в Лафайет возле Оперы, значит, пришла пора рождественской уборки.
Поднимаясь на пятый этаж в мастерскую, я подумала, что одна короткая фраза мадам Аззолины поведала мне о праздничных традициях парижских привратниц, а также о том, что наша консьержка вскрывает письма, прежде чем подсунуть их под дверь, иначе откуда бы ей знать, где я родилась, — наверняка подсмотрела в какой-нибудь официальной бумаге, пришедшей на мое имя.
Праздничная уборка пригодилась бы и дома. Спальня выглядит вполне прилично — достаточно пропылесосить ковер и цветы, вымыть жалюзи, навести порядок в шкафу и сменить белье. В ванной придется делать генеральную уборку: единственное, что осталось здесь чистым, это медные трубы, но ведь их сияние не под силу заглушить даже ржавчине. Кухня сверкает, за исключением покрытой слоем жира микроволновки и измазанной глиной дверцы холодильника. Зато мастерскую надо просто-таки ремонтировать. Паркет вокруг подиума грязный, на белых стенах — пятна вина, кофе, красок. Повсюду банки с высохшим гипсом, огромные окна отливают всеми оттенками серого. Ксавье просил их не трогать: покрывающая стекла двухлетняя пыль рассеивает свет и дает нежный эффект sfumato[24] — словно на картинах эпохи Возрождения. Чтобы добиться подобного освещения, Леонардо да Винчи заслонял окна тончайшим шелком. Хорошо бы почистить и покрыть лаком дощатый стол. Что в мастерской убрано идеально — так это уголок Томаса. Возле его китайской ширмы — ни комков глины, ни пылинки, ни разбросанных бумаг. Как выражается Михал, Томас каждый вечер ведет героическую борьбу с гидрой хаоса. Назавтра ее голова отрастет вновь, но бесстрашный потомок гельветов и на этот раз одолеет чудовище при помощи щетки и тряпки. Под кроватью — набитый книгами чемодан. Не могу представить себе нашего гостя иначе, как в бежевых блузах, рубашках, фланелевых пиджаках. Весь такой пастельный, скромный, элегантный. Собственно, эта элегантная скромность и делает Томаса недоступным. На первый взгляд, по вечерам он с нами: рассказывает забавные истории, таскается с Михалом по музеям и библиотекам, развлекает Ксавье страстной и беспредметной болтовней — но на самом деле где-то витает. За столом сидит, словно в зале ожидания на вокзале… под кроватью упакованный чемодан, несколько любезных слов на прощание — и новая пересадка, новый город: Женева, Иерусалим, Берлин. Ни телефонных звонков, ни писем. Вероятно, у него есть друзья, о которых мы не знаем. Иначе откуда пачка использованных телефонных карточек, которую Томас однажды выбросил в ведро? Столько можно потратить лишь на междугородные разговоры.
Глаза у Томаса не холодные, а погасшие. Они оживляются, когда, склонившись над еврейскими письменами, он находит что-нибудь удивительное или когда задумчиво улыбается не то сам себе, не то кому-то отсутствующему. Мне не нравится эта улыбка, не нравится ласковый взгляд в пространство. Тогда мне начинает казаться, что за нашим столом сидят люди, которых никто не приглашал и никто, кроме Томаса, не знает, ибо из деликатности он своих дам не представил. Ведь речь, разумеется, идет о женщинах, Томас должен им нравиться. Высок, прекрасно сложен: в альбоме Ксавье я видела несколько его набросков в обнаженном виде — что за плечи! Красивое, с правильными чертами лицо, легкая щетина, синие глаза. Он очаровал даже Мишеля, когда тот неделю назад пришел к нам с Заза. Он совершенно забыл про свою спутницу, обращался только к Томасу. Пытался выпытать, как лучше пользоваться еврейскими заклятиями. Он как раз купил книгу о каббалистических именах и печатях ангелов. Томас по своему обыкновению чуть смущенно улыбался, отвечал нехотя. Он больше рассматривал лоснящийся фрак Мишеля, его серебряные перстни и покрытые черным лаком ногти, чем магические знаки, которые тот рисовал. Ксавье потом расспрашивал Томаса, какое впечатление произвел на него Мишель:
— Демоническая личность, правда? Последний настоящий алхимик. Потрясающий парень, он лелеет в себе мрак.
— Мишель? Мрак? — удивился Томас. — Ты ошибаешься, это грязь, а не мрак.
Довольно размышлений, пора браться за работу: отнести белье в прачечную, купить что-нибудь к ужину. На прачечную и магазин — сорок минут, дома буду в пять. Габриэль, естественно, попросит салат и сыр, хотя знает, что я терпеть не могу резать чеснок, смешивать его с соусом и поливать этой смесью зелень. Ну ладно, будет ей салат. После смерти любимого пса она резко постарела. Ностальгия по прошлому и традициям:
— Как хотите, но французский ужин непременно должен завершаться салатом. Друзья мои, хорошая еда сравнима с оргией чувств, но ужин без салата — в лучшем случае оргия онанистов.
Да, Габриэль, ты права, как всегда: пусть будет ужин a la française.[25]
В прачечной очередь. Пришлось пятнадцать минут ждать, пока стоявшая передо мной девица соблаговолит вынуть свое, давно уже сухое, белье. Вместо того чтобы бросить все трусики и маечки в одну сушку, она — по цвету — одарила своим гардеробом целых три барабана. Очередь имела возможность любоваться крутившимися за стеклом розовыми трусиками, ажурными лифчиками, черными подвязками, на которых красовались ярлычки «Кашарель», «Диор», «Шанель».
Домой я вернулась в 17.30. На столе разбросанные книги, тетради и записка: «Мы идем в кино на ночной сеанс. Развлекайтесь. Михал и Томас».
Развлекались мы замечательно. Габриэль привела Саша. Я не видела его, наверное, год — он еще больше похудел, как-то истончился. Вместо приветствия посветил мне в лицо висевшей над столом лампой и поднес к самым ресницам горящую спичку.
— Прекрасный макияж, Шарлотта. Сколько тебе, собственно, лет?
— Двадцать восемь, а тебе?
— Двадцать пять. Просто феноменальный макияж. — Саша погасил спичку, опустил лампу. — Возвращаясь к нашему разговору. Сама видишь, Габриэль, женщины не могут творить историю. Не то что не умеют, просто не хотят. Они сознательно стирают со своего лица каждый отпечаток времени. Это существа антиисторические.
— Поэтому и принято говорить об их вечной женственности. — Габриэль с уважением поглядела на принесенную мною миску с салатом.
— Почему «их»? — Саша галантно положил ей на тарелку порцию шашлыка с ананасом. — Это и твоя прелестная, зрелая женственность.
— Я избегаю антиисторической женственности. Моя грудь творит историю, — заверила его Габриэль. — Она из силикона, переживет нас всех.
— Не может быть. — Саша долил себе вина. — На ощупь не отличишь от обычной. — Он разглядывал декольте Габриэль. — Фантастика, ей-богу, фантастика.
— И она останется фантастически упругой до скончания загробной жизни. Шарлотта, салат — само совершенство. — Габриэль сложила приборы и вытерла рот салфеткой.
Я представляла себе ее упругую силиконовую грудь среди груды истлевших костей. Саша опьянел, ему с трудом удавалось остановить взгляд на чем-либо. Глаза его то и дело возвращались к бюсту Габриэли, обрамленному лацканами пиджака и вырезом обтягивающей блузки.
— О, какой чудесный Рембрандт, — заметил он над плечом Габриэли приколотую к оконной раме репродукцию «Еврейской невесты». — Поистине художник-гуманист. Рембрандт такой… такой… — он не мог подобрать слово, — общечеловеческий.
— Да, Сашенька, Рембрандт общечеловеческий, как сифилис. — Габриэль вонзила вилку в кусочек ананаса. — На, ешь, — принялась она кормить покорно открывавшего рот Саша.
Я унесла пустые бутылки на кухню. Постояла, прислонившись к двери, — устала от беготни в магазин и прачечную, надоело ждать Ксавье. Если бы не седина, со спины Габриэль можно дать лет тридцать. У нее красивые, хотя и отмеченные старческими пятнами руки — сейчас они запихивают пьяному Саша в рот вилку, словно желая зарезать. Бледный Саша открывает и закрывает рот в полной уверенности, что получает самые лакомые кусочки. Габриэль со смехом уверяет, что это недоеденный шашлык. Тарелка пуста, вилка тоже. Саша сонно стучит зубами. Засыпает.