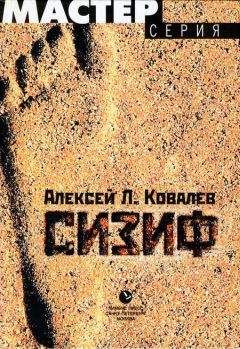Затем приходила пора покидать этот мир, и оказывалось, что не так уж долго позволял он собой любоваться и себя повторять. И тогда во всей своей страшной простоте складывался вопрос: зачем же все это было? Стоило ли любить, смеяться, горевать и наслаждаться красотой только затем, чтобы в один момент оставить это навсегда и перестать быть?
Ответа ждать было неоткуда и поздно было искать его самому. Но если он додумывался до такого вопроса чуть раньше и, обессилев от его жестокости, откладывал колодки и дратву, молот, щипцы и сковороды, появлялся такой вот, как ты, опрятный мужичок и стыдил его за безделье, пугал грозящей никчемностью, от которой кузнец как раз и старался себя уберечь. Я не осудил бы этого пекаря и сапожника, если бы, собрав последние силенки, он показал пришельцу на дверь. Не можешь, мол, помочь, так не мешай, ядрена мать, проваливай, сгинь.
— Прогнать меня тебе ничего не стоит, — ответил грек. — Ты утратил вкус к сочинительству и возвращаешься к нему, чтобы привлечь меня против моей воли к изложению своей истории. Теперь даже сквернословишь. А что, если тебе в самом деле забыть о моем существовании, но не уподобившись пекарю и кузнецу из твоей басни в их внезапной и безрассудной вспышке, а спокойно взвесив свои возможности и осознав их пределы?
Слова грека предполагали некоторую передышку для обдумывания, которой Артур и воспользовался, чтобы собраться с мыслями.
— Я ведь тебя не звал, — проговорил он наконец не совсем уверенно. — Может быть, я посредственный сапожник, но ты намекаешь, что я вообще не своим делом занимаюсь… Ты вот заставляешь меня сомневаться в моем праве на твою жизнь, а есть у тебя право на мою? Я удостоился чести твоих разоблачений и рад, что это случилось. Кому же охота заблуждаться. А в остальном… Не слишком ли ты… как бы это сказать… усердствуешь? Чтобы не обижать тебя словом «выслуживаешься». Как перед шпаной малолетка. Какое, в сущности, тебе дело до того, что кто-то обдумывает события твоей жизни? Ничего это не изменит, мифа даже не коснется… Ну, допустим, мне пришло в голову выяснить, не догадывался ли ты уже тогда, что боги твои еще не настоящий Бог. Подумаешь, какая опасная мысль! Да если она и может кого-то беспокоить, то уж, конечно, не тебя.
На этот раз его исчезновение впечатляло еще больше, чем приход. Свет, вспыхнувший на долю мгновения за спиной, был так невероятно ярок, что предметы в комнате не только не бросили тени, но как бы обрели прозрачность. Вслед за этим то, что казалось ярким солнечным днем, стало выглядеть, как сумерки.
Похоже было на бегство, на бессильное отступление с хлопаньем дверью.
Но по прошествии нескольких минут, пока зрачки принимали нормальные размеры, возбуждение от того, что за ним осталось последнее слово, стало таять вместе с мелкой сеточкой, наброшенной на солнечный мир вокруг, который в конце концов снова воссиял. Сияние было холодным, там продолжался какой-то неизвестный праздник, на который его не тянуло попасть.
Эта аннигиляция могла быть всего лишь поспешным возвращением, как если бы гость засиделся, а потом, спохватившись, метнулся, чтобы проколоть пространство, отделявшее одно рабочее место от другого. А еще больше было это похоже на то, как поступает в сердцах честный человек: не находя слов в ответ на явную и запальчивую ложь, возмущенный тем, как бессовестно собеседник злоупотребляет интонацией оскорбленного достоинства, он внезапно замолкает и действительно хлопает дверью.
Весь последний год, с тех пор как умерла Катя, Артур безразлично наблюдал, как высыхали и распадались его связи с окружающим миром. Много раз он приходил к единственной, кое-как поддерживавшей мысли о том, что следует позабыть обо всех желаниях и планах, даже самых близких и простых, и доживать, подчинившись только физиологическому циклу, отпущенному природой. Отвращение к любому произволу удерживало его от серьезных размышлений о самоубийстве, но, кажется, и это сильное чувство давно потеряло упругость, не получая живительных соков от естественного обмена с миром, и готово было рассыпаться, подобно остальным побуждающим или сдерживающим представлениям.
Не было в этом и ничего неожиданного, он с самого начала знал, что без Кати жизнь лишится основы. Они были очень непохожими, но вместе с этой женщиной судьба наделила Артура редчайшим даром смотреть на мир ее глазами, которые были намного острее и видели гораздо больше. Он догадывался, что нечто похожее происходило и с ней, хотя она никогда об этом не говорила. С уходом любого из них кончался не союз и не единство — завершало свой круг особое существо, ради создания которого оба они явились в этот мир. Заставляя себя любоваться кратким цветением азалий, Артур ощущал во рту сладковатый привкус медной пыли и непреходящую смертную тревогу, как бывает, когда день за днем не можешь вдохнуть полной грудью, хотя все чаще предпринимаешь судорожные попытки.
Тоска не ослабевала, он ни с кем не мог об этом говорить, даже с дочерью, горе которой тоже было велико. Ее утешить Артуру удавалось, но, когда она, собравшись с силами, осторожно приступала к нему, он прямо и откровенно останавливал ее, ограничиваясь одной дурацкой, но покрывавшей всю его немоту фразой: «Не смогу».
Воля его была настолько подавлена, что весь год ему не удавалось писать. Только недавно он с удивлением обнаружил, что это — единственное занятие, не ронявшее его в черную дыру утраты. Удивляться-то было, в общем, нечему, остальное они делали вместе, и на что бы теперь ни наткнулась его рука, все оказывалось неосуществимым. Новый ущербный вид существования коснулся и этой его деятельности, она лишилась и прежде нечастых просветлений, радостных открытий, которые представлялись единственной наградой, позволяли прервать уединение, чтобы, замирая от страха, передать новый ворох трудов в строгие Катины руки. Но даже и в таком, неполном виде эта работа доставляла ему меньше испытаний, чем любые другие телодвижения, и уже только поэтому он вновь к ней пристрастился. А сюжет, на который он набрел в слепых попытках избавления от боли, стал неожиданно важным сам по себе, ибо обещал возможность приблизиться к загадке небытия, только что оглушительно о себе заявившего.
Как свидетельство собственного душевного неблагополучия галлюцинация его не занимала — об этом неблагополучии ему было известно больше, чем кому бы то ни было, — но упорство, с которым гость отваживал его от столь невинных занятий, казалось необъяснимым. Отдавая себе отчет в том, что грек является производным его собственного воображения, Артур недоумевал, откуда же возникло противодействие, отнимающее у организма последние жизненные функции. Мало того, в своих повторяющихся инвективах пришелец снова и снова указывал на какую-то жизнь, которой Артуру не следовало пренебрегать.
Никакой такой жизни не было, и обсуждать ее было во всяком случае поздно. Но и на тот способ существования, который он мог еще с грехом пополам себе позволить, у него, оказывается, не было права. И надо было отдать должное этому фантому или подсознанию — им удавалось накапать в чернильницу достаточно отравы, чтобы строчки видом своим начинали горчить.
Тут начинала проступать одна тайная, тщательнее всего оберегаемая от чужого и собственного внимания вибрация совести. Уж не имеем ли мы тут дело с той расплатой, которая теоретически полагается за своевольное, не идеальное решение вопроса о призвании? Достаточно ли простого постоянства, слишком напоминающего иногда любое другое пристрастие — филателию например, меломанию, да просто чтение, наконец, — или всякое распыление усилий неминуемо приводит к отступничеству? Солдату, так сказать, положено воевать, философу — создавать всеобъемлющую систему представлений о вселенной, политику — совершенствовать государственное устройство, поэту — писать стихи, романисту — прозу, и только. И не плотницкий, мол, труд в мастерской Иосифа был делом жизни Иисуса.
Ему всегда казалось, что сочинительство было делом его жизни, независимо от того, чем приходилось зарабатывать на хлеб. Но мыслимо ли было бы, например, бросить службу, ту или иную, обеспечивавшую пристойное существование семье, позабыть о значительном и непрерывно тянущемся долге, свести к минимуму потребности — не только свои, но и близких, перестать заботиться о завтрашнем дне и не отрываться более от листа бумаги? Мыслимо, но неосуществимо. Мир устроен по-другому и отнюдь не расположен кормить подвижника впрок, и даже плоды его подвижничества чаще всего оставляет без внимания, если не отвергает гневно. Поневоле приходится заботиться о себе, отдавая главному пристрастию столько сил, сколько остается. Кьеркегор с сочувствием называл эту житейскую мудрость любовью к Богу в отсутствие веры, а право на единое движение веры и любви оставлял только Аврааму, который для Бога готов был убить единственного сына и, несмотря на усилия философа, оставался фигурой мифической, непостижимой.