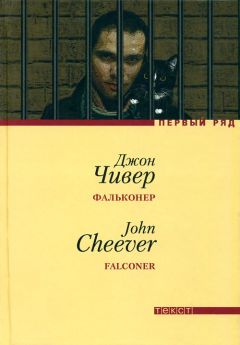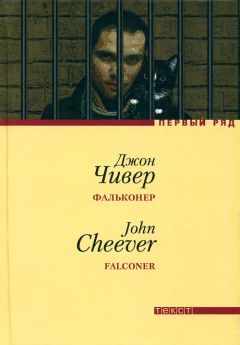— Ох, — вздохнул адвокат. — Как же у меня болит спина! — Он с трудом наклонился вперед и потер поясницу правой рукой. — У меня болит спина оттого, что я ем чизбургеры. Вы не знаете никакого средства от боли в спине, которая возникает, когда ешь слишком много чизбургеров? Подпишите эту бумагу, и я оставлю вас в покое. Ваше мнение меня совершенно не интересует. Знаете, что говорят про всякие мнения?
— Да, — отозвался Фаррагат. — Мнение — как жопа. Есть у каждого и у всех воняет.
— Ох, ох, — сказал адвокат. Голос у него был звонкий и совсем юношеский.
— Вы знакомы с Чарли? — очень тихо спросил он.
— Видел его в столовой, — ответил Фаррагат. — Да, я его знаю. С ним никто не разговаривает.
— Чарли — парень что надо, — сказал адвокат. — Когда-то он работал на Пеннигрино, известного сутенера. Чарли у него воспитывал цыпочек, — адвокат перешел на шепот. — Если цыпа в чем-то провинилась, Чарли ломал ей ноги. Хочешь сыграть с ним в «Скрэббл»? Как тебе такое? Сыграешь с ним в «Скрэббл» или подпишешь эту бумагу?
Быстро просчитав, какие обвинения могут теперь выдвинуть против него, Фаррагат метнул в бородача планшет.
— Моя спина! — застонал адвокат. — О Господи, моя спина.
Он встал. Взял планшет. Сунул правую руку в карман. Судя по всему, он даже не заметил, что у него пропала ручка. Ничего не сказав ни охранникам, ни дежурному, он вышел из камеры.
Фаррагат стал засовывать ручку в задний проход. Исходя из того, что ему рассказывали, а также из его собственного опыта, задний проход на удивление маленький, узкий и неподатливый. Фаррагат сумел засунуть ручку только до зажима, что оказалось достаточно болезненно. Но этого хватило — ручка была надежно спрятана. Тут дежурного вызвали из блока. Вернувшись, он зашел к Фаррагату в камеру и спросил, не у него ли осталась ручка адвоката.
— Да, знаю, я швырнул в него планшетом, — ответил Фаррагат. — Простите, просто я немного погорячился, надеюсь, ему не очень больно.
— Он говорит, что забыл здесь ручку, — сказал дежурный.
Он заглянул под кровать, поискал в ящике шкафа, под подушкой и матрасом, на подоконнике. Потом к нему присоединился охранник. Он снял с кровати простыню, а затем раздел Фаррагата и даже сказал что-то обидное насчет размера его члена, однако ни дежурный, ни охранник не стали искать ручку у него в заднице — скорее всего, по доброте душевной, решил Фаррагат.
— Ее нигде нет, — сказал дежурный.
— Надо найти, — отозвался охранник. — Он велел нам ее найти.
— Тогда скажи ему, пусть сам ищет.
Охранник вышел, и Фаррагат испугался, что сейчас в камеру зайдет бородач, но охранник вернулся один. Он что-то сказал дежурному.
— Ну и повезло же тебе, — грустно протянул дежурный Фаррагату. — Придется посидеть в карцере.
Он подал Фаррагату костыли и помог одеться. Пошатываясь, Фаррагат неуклюже заковылял вслед за охранником — ручка все еще была у него в заднице. Выйдя из камеры, они прошли по коридору, где сильно пахло негашеной известью, и вскоре оказались перед дверью, запертой на замок и на засов. Охранник долго не мог отыскать ключ. Наконец они вошли в крохотную камеру. Под потолком было узкое окошко, которое располагалось так высоко, что снаружи никто бы не заметил, что происходит внутри. Фаррагат увидел унитаз, Библию и матрас, на котором лежали сложенные простыня и одеяло.
— Сколько мне здесь сидеть? — спросил он.
— Адвокат засадил тебя сюда на месяц, — ответил охранник, — но я видел, как Тайни принес тебе помидоры, и раз уж Тайни твой друг, то выйдешь отсюда через неделю.
Он закрыл дверь и запер ее на засов.
Фаррагат вытащил ручку. Именно при помощи этого драгоценного инструмента он и предъявит обвинения Чисхолму. Он уже видел, как Чисхолм в серой робе, после трех лет заключения, ест сосиски с рисом погнутой алюминиевой ложкой. Теперь нужна только бумага. Туалетной бумаги не было. Можно, конечно, попросить, но даже если повезет, ему будут приносить по листку в день. Фаррагат схватил Библию. Она была небольшого формата, в красном переплете, последние страницы, как обычно, толстые и черные, а на остальных текст напечатан так густо, что писать поверх просто невозможно. Ему хотелось как можно быстрее записать, в чем он обвиняет Чисхолма. Желание адвоката во что бы то ни стало забрать у Фаррагата ручку укрепило его уверенность в том, что обвинение надо составить обязательно; единственное, что оставалось, — это записать обвинение хоть где-нибудь и заучить наизусть, но он сомневался, удастся ли. Ручка у него была, но писать он мог только на стене. Да, можно записать все на стене, а потом выучить наизусть, однако воспитание и моральные принципы не позволяли ему использовать стену вместо бумаги. Он — человек и еще сохранил остатки самоуважения, а потому писать свое — быть может, последнее — послание миру на стене казалось ему неподобающим использованием абсурдной ситуации, в которой он оказался. У него все еще оставались какие-то нравственные ценности. Можно писать на гипсе, робе или простыне. Гипс не годится, так как Фаррагат достает только до середины ноги, к тому же поверхность покатая, и писать будет неудобно. Он вывел пару букв на своей робе. Однако как только капиллярная ручка коснулась ткани, чернила сразу впитались, и стали видны переплетения нитей, основа и уток этого безыскусного одеяния. Значит, роба тоже не годится. Он упорно не хотел писать на стене, а потому решил испробовать простыню. К счастью, в тюремной прачечной умели пользоваться крахмалом, и простыня оказалась отличной заменой бумаге. Простыню у него не заберут, по меньшей мере, в течение недели. Он напишет на ней обвинение, хорошенько его обдумает, исправит, а потом заучит наизусть. Вернувшись в блок Д, он сядет за печатную машинку, напечатает то, что заучил, и переправит письмо губернатору, епископу и любимой.
«Ваша честь, — начал Фаррагат, — я обращаюсь к вам, избранному народом, как человек, которого тоже избрал народ. Вы были избраны на пост губернатора большинством населения. Я же был избран для того, чтобы оказаться в камере в блоке Д и стать заключенным под номером 73450832, — избран одной из самых древних, высоких и единых сил — силой правосудия. У меня не было соперников. Тем не менее я по-прежнему являюсь гражданином этой страны. На свободе я был примерным налогоплательщиком: пятьдесят процентов моих доходов уходило на налоги, так что, смею надеяться, я внес значительный вклад в возведение и ремонт тех стен, которые теперь отделяют меня от других граждан. Я полностью оплатил одежду, которую ношу, и еду, которую мне подают. Более того, моя избранность более очевидна, чем ваша. Ведь путь к тому посту, который вы сейчас занимаете, лежал через уловки, коррупцию и лживые махинации. Мой пост завоеван в честной борьбе, путь к нему чист.
Разумеется, мы принадлежим к разным классам. Если бы в Америке с почтением относились к нашим духовным и социальным корням, я бы не отважился к вам обратиться, однако у нас демократия. Я никогда не имел чести быть вашим гостем, хотя дважды посещал Белый дом в качестве делегата конференций по вопросам высшего образования. Мне кажется, Белый дом — настоящий дворец. В моих апартаментах такого блеска нет, камера совсем крошечная: семь футов в ширину, десять — в длину; много места занимают унитаз и бачок, который самопроизвольно сливает воду от десяти до сорока раз за день. Впрочем, меня это не очень раздражает, ведь я видел гейзеры в Йеллоустоунском национальном парке, а также фонтаны в Риме, Нью-Йорке и конечно же Индианаполисе.
Двенадцать лет назад, в апреле, доктора Лемюэль Браун, Родни Коберн и Генри Миллс признали меня наркоманом. Эти люди закончили Корнеллский университет, медицинский институт в Олбани и Гарвардский университет соответственно. Государство, федеральное правительство и коллеги присвоили им медицинскую квалификацию. А потому само собой разумеется, что их мнение — это мнение страны. В четверг, восемнадцатого июля, решение этих мужей решил оспорить заместитель директора тюрьмы мистер Чисхолм. Мне известны некоторые факты из прошлого Чисхолма. На первом курсе его выгнали из института, и он купил ответы к тесту государственной гражданской службы, который предлагают пройти тем, кто хочет работать в исправительном заведении. Купил за двенадцать долларов, и управление исправительных учреждений назначило его на эту должность, предоставив в распоряжение меня с моими конституционными правами. В девять часов утра, восемнадцатого июля, Чисхолму вздумалось попрать законы нашего государства и федерального правительства, а также нарушить этические нормы медицинской профессии — профессии, которая воплощает собой важнейший принцип, лежащий в основании демократического общества. Чисхолм отказал мне в лекарстве, а ведь общество предоставило мне право на лекарство. Разве это не низвержение всех норм, не обман, разве это не государственная измена, когда положения Конституции рушатся по прихоти одного-единственного невежественного человека? Разве за такое злодеяние ему не полагается смертная казнь — или, как в некоторых штатах, пожизненное заключение? Разве это преступление не более жестоко, чем неудавшаяся попытка убийства? Разве оно не столь же губительно для нашей старой, с таким трудом завоеванной философии управления, как насилие и убийство?