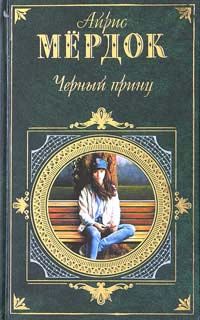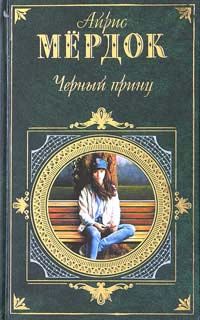Запертые в Праге. Она всегда казалась ему ловушкой, красивой зловещей клеткой. Огромные тяжелые здания переходили в громады башен, спускаясь к запертой реке. Они снимали квартиру на узкой улочке, ниже Страхова монастыря. Семья отчаянно мерзла зимой и слушала колокола. Колокола, колокола на холоде.
— Значит, вы университетский человек?
— Да, меня, пожалуй, можно назвать университетским человеком. Но это было так давно.
— Вам удавалось заработать достаточно денег?
— Да, вполне. Но отец умер, когда мне было около двадцати, и жить стало труднее. Мы все работали. Сестра шила одежду. Конечно, в Праге было много русских. Все помогали друг другу. Мы принесли с собой Россию. Она все еще оставалась с нами. Но это было печальное время.
Гроб отца наклоняется, когда его несут вверх по крутой улице. Она слишком узка для катафалка. Мать и сестра спотыкаются и плачут, но его глаза сухи, он закалил себя и не подпускает боль. Катафалк трясет на булыжниках. Колокола.
— Что же случилось потом?
— Потом пришел Гитлер. Он прервал мои занятия.
— Гитлер. О да. Я забыла. Вам удалось снова бежать?
— Мы пытались, но наши документы оказались не в порядке. Нас задержали на границе. Мать и сестру отправили назад в Прагу, а меня послали работать на фабрику. Впоследствии меня перевели в трудовой лагерь.
— Наверное, это было ужасно? Долго ли вы там пробыли?
— Я пробыл там до конца войны. Это было мерзко, но другим пришлось еще хуже. Я работал на полях, там не голодали.
— Бедный вы, бедный.
— Послушайте, я уже несколько дней зову вас Пэтти. Не могли бы и вы называть меня Юджин?
Он, конечно, произнес свое имя по-английски. То, что англичане неправильно произносят его имя и фамилию, долго огорчало его. Прекрасные русские звуки оказались им недоступны. Теперь он почти испытывал какое-то мрачное удовольствие в вынужденном инкогнито.
— Да, хорошо, попытаюсь. Я никогда не знала никого с таким именем.
— Юджин.
— Юджин. Спасибо. Что произошло с вашей матерью и сестрой?
— Мать скоро умерла от паралича. Я ее никогда больше не видел с тех пор, как мы расстались на границе, правда, я получил несколько писем. А сестра… я не знаю… она просто… пропала…
— Вы хотите сказать, что не знаете, что с ней произошло?
— Люди пропадали во время войны. И она пропала. Я продолжал надеяться какое-то время.
— О, простите. Как звали вашу сестру?
Наступило молчание. Юджин внезапно почувствовал, что не может говорить. Огромная волна чувств поднялась в нем и, казалось, хлынула в комнату. Он вцепился в край стола. Прошло много-много лет с тех пор, как он кому-нибудь рассказывал об этом. Через минуту он сказал:
— Ее звали Элизабет, по-русски Елизавета.
— Мне ужасно жаль, — пробормотала Пэтти, — мне не следовало просить вас рассказывать. Пожалуйста, простите меня.
— Нет, нет. Это хорошо, что я рассказал. Я никогда об этом не рассказывал. Вы принесли мне пользу. Пожалуйста, спрашивайте еще. Я отвечу вам на любой вопрос.
— Что произошло потом, когда кончилась война?
— Я был в различных лагерях для беженцев, в конце концов оказался в лагере в Австрии.
— И сколько вы пробыли в лагерях?
— Девять лет.
— Девять лет? Почему так долго?
— Ну, было трудно выйти. Так много путаницы, и людей перебрасывали с места на место. Позже я женился в лагере. Ее звали Таня, Татьяна. Она была русской, и у нее был туберкулез. Никто не хотел взять нас с туберкулезом. Вопрос был в том, чтобы найти страну, которая согласилась бы нас принять, понимаете?
Он совсем не собирался жениться на Тане. Вопрос решил Лео.
— И что же вы делали все эти годы в лагере?
— Ничего. Немного спекулировал на черном рынке. В основном ничего.
Он вспомнил длинный деревянный барак среди сосен. Его койка стояла в углу. Важно было занять угол. Позже они с Таней делили небольшой барак с другой парой. Они устроились там, прикололи картинки к стене. Он не чувствовал себя слишком несчастным, особенно когда появился Лео. После семи лет убийственной работы наступило девятилетнее безделье.
— Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вернуться назад, в Россию?
— Да. Тогда я часто думал об этом, Таня не хотела, да и я бы побоялся. К тому же вопрос упирался в религию.
Он поднял глаза на икону. Отец, Сын и Дух Святой с кроткими и склоненными лицами беседовали у стола, накрытого белой скатертью. Их золотые кудри переплетались. Они были грустны, так как знали, что не все благополучно с их творением. Возможно, они ощущали, что их самих тихо относит от него.
— О, вы христианин, вы принадлежите к русской православной церкви.
— Нет, больше нет. Теперь я атеист.
Во время войны религия утешала его, возможно, скорее как воспоминание о добрых и чистых людях, чем личная вера в спасительное божество. В годы праздности она постепенно стерлась, как все исчезло в эти годы. Он оставил свою страну Богу, в которого больше не верил. Но нет, у него никогда не хватило бы мужества вернуться. Однако он очень много думал о России в том лагере, когда лежал на кровати бесконечными летними днями, чувствуя голод и вдыхая запах сосен и креозота, и воображал себя окруженным своими соотечественниками, говорящими на родном языке.
— А картина, икона, она была с вами все это время?
— Нет, не все время. Она принадлежала моей матери. После того как она умерла, наши друзья в Праге взяли ее, это семья юриста. Затем после войны они разыскали меня через Красный Крест и передали ее мне в лагерь. Это единственная вещь, которая была и там и здесь.
Странно подумать, что она висела в спальне его матери, в том доме в Санкт-Петербурге. Спальня была темной, полной колыхающихся занавесок, кружев, тюля. В ней была душно и пахло одеколоном. Более удивительно было думать, что икона совершила такое путешествие, чем вспоминать, что такое же путешествие совершил он сам. Может, потому что он постарел, а икона — нет.
— Она красивая. И наверное, ужасно дорого стоит.
— Да. Я всегда боялся, что ее украдут в лагере. Я думаю, так бы и сделали, но ее немного боялись, испытывали перед ней какой-то суеверный страх. А здесь я держу свою комнату запертой — в этой части Лондона всегда шныряют воры. Я и вам советую всегда тщательно запирать дверь. Хотя икона может напугать вора даже здесь. Она считается чудотворной и принадлежала церкви, прежде чем попала в нашу семью, говорят, раз в год ее обносили вокруг города, и пока она участвовала в процессии, происходили разные чудеса: люди внезапно признавались в своих грехах или примирялись со своими врагами.
— Совершала ли она какие-нибудь чудеса для вас?
— Нет. Но я и не заслужил никаких чудес. Я потерял веру. Он потерял свою страну и свою веру. Великолепный темный сверкающий интерьер русской церкви был домом для него так много лет его детства и юности. Бородатый русский Бог прислушивался в этой тьме к его просьбам и молитвам, бранил его за ошибки, прощал прегрешения, любил его. Лишь со временем он понял, что здание было пустым. Безбрежное присутствие — всего лишь обман темноты. Там ничего не было, кроме темноты. А теперь у него есть сын, который не может постигнуть Бога.
— Я люблю икону, — сказал он. — И зажигаю ладан перед ней. Этим как бы подкармливаю ее. Она для меня больше чем символ.
Хотя чем еще она могла быть, как не символом? Он был сентиментальным суеверным человеком. И любил икону, потому что она принадлежала его матери и жила с ними в Санкт-Петербурге. Возможно, она каким-то образом удовлетворяла его подавленное чувство собственности. Он любил ее так же, как незамутненный образ добродетели, лишенный всего индивидуального.
— И вы приехали в Англию?
— В конце концов, да.
— А зачем?
— Ничего особенного. Работал в разных местах. А сейчас сижу здесь и разговариваю с Пэтти.
Как прошли годы? Они прошли. Иногда в памяти времена отталкивались, и казалось, что это Гитлер стучал в ворота Санкт-Петербурга. Его зрелость как будто случайно забрали у него. Пятнадцать лет в лагерях, вся середина жизни. Более того, в действительности он никогда не прекращал жить в лагере. В Англии он переезжал из одного жалкого и грязного барака в другой. Даже сейчас он жил в лагере. Он получил свой угол. И все.
— Хотелось бы мне поработать в одном из таких мест, — заметила Пэтти.
— Вы имеете в виду лагерь для беженцев? Почему?
— Это было бы что-то реальное — быть рядом с настоящим страданием, помогать людям.
— Жизнь в лагере абсолютно нереальна для людей, которые живут там. Лагерная жизнь — сон, Пэтти. Для работников, занимающихся вопросами улучшения быта, там все в порядке. О, я видел множество их, таких веселых, таких довольных собой! Ничто не делает человека счастливее и свободнее, чем вид страдающих и заключенных людей! Нет, они были вполне положительными, эти работники по улучшению быта, вы не должны считать меня циником. Но между их самодовольством и нашим полузабытьем как-то терялась реальность. Возможно, Бог видел это. Только святой мог бы придерживаться там истины.