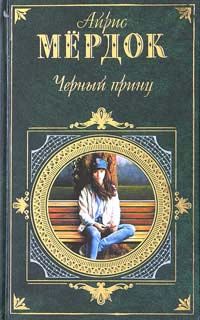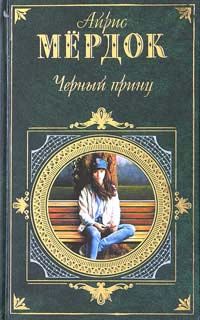— Это вряд ли, — отрезал я. — Но правильно ли я вас понял? Неужели ваша сестра воображает, будто все это правда?..
— Да, она немного… ну, не то чтобы ненормальная, но, как я сказал, странная, с воображением, да. У нее то, что мы называем Polizeiangst.[18] Ей всегда кажется, что ее преследуют. Она рассказала вам о человечках в лесу, которые следят за ней? Нет? Ей так тревожно быть еврейкой. Она все время страдает от этого, и все, что происходит в мире с евреями, она как бы примеряет на себя.
— Бедное дитя, — произнес я.
Я вспомнил восковое лицо и пристальный взгляд. Да, возможно, она немного не в себе. Очередная жертва неправедного мира. Я позволил Левкину увлечь меня на тропинку, которая окольным путем вела от дома к мастерской.
— Однако она ведьма, — сказал Левкин. — Русалка, как их называют в России. Она несет в себе особый род смерти. И она грешит, о да, грешит с самых юных лет. У нее было много-много мужчин. Вот что нравится хозяину Отто. То, что она ненормальная, и то, что она проститутка. А он нравится ей, потому что он чудовище и развалина. Но я не должен говорить подобное о своем хозяине, правда?
— Не должен, — согласился я, — так что…
На самом деле меня заинтриговали его слова и неотступно преследовал душераздирающий образ бедной душевнобольной девушки. Я прекрасно понимал, отчего Отто так очарован ею.
— Понимаете, есть два вида евреев, — продолжал Левкин, наступая мне на пятки. — Есть евреи, которые страдают, и евреи, которые преуспевают, темные евреи и светлые евреи. Эльза — темная еврейка. Я — светлый еврей. Я буду работать и преуспевать. Я преуспею в искусстве или в бизнесе, а может, в художественном бизнесе. Я заработаю огромные деньги. И не буду помнить. Я ничего не буду помнить. Она же — сплошное воспоминание, она помнит так много, хранит воспоминания, которые ей не принадлежат. Ей кажется, что она — те другие люди, люди, которые страдают и умирают. Поэтому она будет страдать, поэтому, боюсь, она умрет молодой. Но я отброшу все это. Я буду левитировать над миром. Буду жить в мире света.
— Давно это у них с моим братом?
— О, уже несколько месяцев, с тех пор как мы здесь.
— Кто-нибудь знает, кроме вас?
— Подождите, подождите, мистер Эдмунд. Не идите так быстро. Нет, никто не знает, никто, кроме меня.
— Что ж, пусть так и будет, — сказал я, — До свидания.
Мы дошли до края сада, и я быстро зашагал через лужайку, оторвавшись от Левкина. Солнце высушило росу. Черви исчезли. Я был взбудоражен, оживлен. Мне хотелось обдумать все, что случилось со мной. Хотя, конечно, это не мое дело. Я не принадлежу этому месту, я скоро уеду, может быть, даже сегодня… И тут я вспомнил о Флоре. Посмотрел на часы — и не поверил своим глазам. Было уже больше десяти утра. Я рванул к дому.
До меня внезапно дошло, что я попросту забыл о встрече с девочкой. Не понимаю, как я мог! Ложась вчера в постель, я был так полон ею, что не способен был думать ни о чем другом. Однако таинственная ночная сцена, сумасшедшая принцесса и виноватая болтовня Левкина настолько приковали и поглотили мои мысли, что самое главное совсем вылетело из головы. Я вбежал в дом.
Флора жила в моей старой комнате. Грохоча по ступенькам, сотрясая весь дом, я бросился туда. Конечно же, она все еще ждет. Я быстро постучал и распахнул дверь.
Маленький письменный столик был аккуратно накрыт к завтраку. Две тарелки, несколько ваз с фруктами: яблоки, бананы, апельсины, абрикосы. Еще были хлеб, масло, швейцарский вишневый джем и большой кувшин молока. Флора накрыла стол с любовной заботой. Но самой ее не было.
Я медленно вошел. На столе лежала записка: «Я ждала, но ты не пришел. Ф.» Я тяжело опустился на кровать, ужасаясь самому себе.
Почувствовав на себе чей-то взгляд, я поднял голову.
— Ах, Мэгги… она ушла. Говоришь, искала меня повсюду? Автобус, как раз незадолго до десяти, ну конечно.
Итальянка смотрела на меня с отстраненным видом слуги-домочадца, с неулыбчивой безликой сдержанностью. Серьезное выражение лица, безликое черное платье, свисающий узел волос — ничто не могло быть дальше от того места, куда меня только что завело воображение. Она шагнула вперед и принялась убирать скромный завтрак Флоры на поднос. Я выскользнул из комнаты.
— Прошлой ночью мне снилось, — сообщил Отто, — будто в доме какая-то большая змея. Я услышал, как она ползет за мной из комнаты в комнату, и побежал к телефону. Закрыл перед ней последнюю дверь и попытался позвонить в полицию. Но в диске было полно насекомых, и, куда бы я ни сунул палец, всюду кишели жуки и мокрицы и я не мог набрать номер, не раздавив их. Поэтому я так и не позвонил, а потом эта змея…
— Куда делась Флора?
— Без понятия, — откликнулся Отто. — А она куда-то делась? Наверное, вернулась в колледж. Она стала так небрежна с нами, приходит и уходит, когда ей заблагорассудится. Лучше спроси у Изабель. В моем сне мокрицы были из тех, что умеют сворачиваться и…
— Отто, прошлой ночью…
— Я знаю. Дэвид мне рассказал.
Я тщетно искал Флору. Сел на ближайший автобус до железнодорожной станции, позвонил в колледж, в общежитие, в котором она обычно останавливалась, я даже попросил позвать мистера Хопгуда, но, похоже, никто на том конце линии не слышал о нем. Вообще-то я почти не надеялся отыскать ее: она убежала и будет прятаться. Она обещала сделать все, как я скажу, просила позаботиться о ней, а я в решающий момент забил себе голову другими вещами. Мне представлялось, что я подвергся какому-то сомнительному колдовству, был почти намеренно захвачен чародеями. Однако я понимал, что это всего лишь жалкое оправдание. Если бы мое сердце и мысли были достаточно полны Флорой и ее нуждами, я просто не смог бы забыть о времени. Я также знал, что сцена в беседке крайне взволновала меня. Мною овладело некое старое ощущение связи наших с Отто судеб, ощущение того, что наши души, с виду столь несхожие, одинаковы. Я слишком хорошо понимал влечение, перед которым не устоял мой брат. Я сострадал ему и в то же время чувствовал себя униженным, опозорившимся.
И еще мне стало ясно, что я не могу уехать. Я — пленник ситуации. Чуть раньше, бродя в бесцельной апатии, я испытывал нестерпимый соблазн сбежать. Флора пропала, Изабель лежит и никого не хочет видеть, Отто все еще заточен в беседке. Я чувствовал себя никчемным, чужим, отверженным. Не в моих силах было чем-то помочь этим людям. И все же, пылко желая уехать и даже советуя себе вернуться в свой простой мир, прежде чем со мной случится что-нибудь похуже, я знал, что уехать не могу. Остаться здесь — мой долг; это резкое слово приковало меня к месту. Но дело не только в долге. С невольной тревогой я понял, что хочу остаться. Я становился частью механизма.
Тогда-то я и решил, что должен поговорить с Отто о прошлой ночи. Вероятно, брат с сестрой и так расскажут ему о моем вторжении. Но я чувствовал, что если во мне осталась хоть капля честности, то я должен сам все разъяснить. Я принял это решение с некоторым трепетом, зная, какими внезапными и жестокими бывают вспышки ярости Отто. Разумеется, я не собирался рассказывать ему о Флоре. И даже Изабель вряд ли стоило что-либо говорить. Я бродил там-сям, заглядывал в мастерскую, пока около пяти часов пополудни Отто не появился в ней, весьма растрепанный. Можно было только догадываться, как он провел день. Мне это было очень любопытно, хотя я ненавидел любопытство и надеялся, что Отто его не заметит.
Войдя, я увидел, что Отто открывает бутылку виски. Он наполнил стеклянный кувшин из бочки для дождевой воды и мрачно изучал коричневатую жидкость, в которой плавали разные крошечные твари. Отто осторожно налил немного воды в стакан, стараясь оставить живность в кувшине. Это было непросто. Потом он долил доверху виски и сел на тюк упаковочной соломки. Тюк резко просел в середине, и Отто опустился почти до земли, лежа на спине в соломке, точно в колыбели. Он выглядел беспомощным, как огромный ребенок. Я сел на блоки уэстморлендского сланца.
— Да, Дэвид мне рассказал, — задумчиво повторил Отто, глядя на свое мутное пойло. Он вздохнул и отпил немного. — Вот чем плохо быть алкоголиком: в нормальном состоянии ты жутко мучаешься. Думаю, это и значит быть алкоголиком. Держись подальше от выпивки, Эд.
— Держусь.
Я решил позволить ему самому вести разговор, коли он так хочет. Мне живо представилось, как он рассуждает, поглядывая то на меня, то на свою выпивку. Длинные шерстяные кальсоны, торчащие из-под его штанов, маскировали пыльные ботинки. Грязная рубашка была распахнута на груди, обнажая знакомые майки. Должно быть, Изабель давным-давно перестала заниматься его гардеробом.
— Итак, ты видел моего malin génie.
— Да.
Я не мог придумать, что сказать о ней. Она очаровала меня. Но какой смысл говорить об этом Отто!