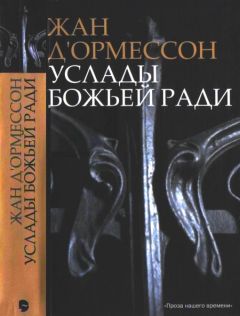Великая Первая мировая война привела не только к примирению моего семейства с Францией и к падению Российской империи. Она привела также к распаду другой монархии и династии, всегда игравшей важную роль в истории нашей семьи: династии Габсбургов и Австро-Венгрии. Ненавидя орлеанистов, мой прадед, чтобы не служить Луи Филиппу, во время июльской монархии в течение четырех лет носил белую униформу австрийской армии. Он жил, тогда в роли оккупанта, в Венеции, где влюбился в итальянскую графиню, чей готический дворец возвышался над Большим каналом, между мостом Риальто и площадью Святого Марка, почти напротив академии. Его романтические приключения вдохновили, уже в наши дни, Лукино Висконти на один из его знаменитых фильмов, «Чувство», где в персонаже любовника Алиды Валли выведен отец моего дедушки.
Австро-Венгрия, подобно России и Германии, тоже была страной, где мы чувствовали себя как дома. Для нашего семейства, как и для Талейрана, чьи взгляды мы в общем и целом разделяли. Австрия была еще палатой пэров Европы. Крах ее поверг нас в ужас. То, что появилось на ее развалинах — Чехословакия, новая Венгрия, огромная Югославия, — было нам абсолютно чуждо. Святое неведение порой идет дальше компетентности и таланта. Дед мой, ничего не знавший, предсказал грядущие в недалеком будущем катастрофы: крушение Срединной империи в Китае, крушение Двуглавой монархии и всего того мира, ушедшего в небытие, который столько раз сражался против славян и турок, справлял столько праздников под знаком двух согласных, так нами любимых: «K und K — Kaiserlich und Königlich», — императорский и королевский. Вместе с Габсбургами погибла частица нашего сердца и нашего прошлого. Вместе с тем война помогла нам вновь найти Францию, наше отечество. Она же была причиной потери трех других родных стран: Германии, нашего поверженного противника, святой Руси, утонувшей в крови, и Австро-Венгрии, разорванной в клочья. Победы в еще большей мере, чем поражения, способствовали исчезновению любимого нами мира. История, так долго помогавшая нам, перестала быть нашим союзником.
Но было и нечто похуже. Мы так любили прошлое, что охотно согласились бы отказаться от настоящего и будущего, если бы нам сохранили хотя бы память о прошлом. Республика отняла ее у нас путем введения обязательного обучения. Уже само обязательное начальное образование для всех достаточно раздражало нас, потому что могло сокрушить дорогие нам барьеры между кастами. Однако оно нам не нравилось еще и потому, что не только дети других сословий должны были ходить в школу, но также и наши собственные. В отличие от буржуазии, мы вовсе не дорожили образованием ни для чужих, ни для своих детей. Веками мы видели мир таким, каким хотели его видеть, и он подчинялся нашим законам. А тут писаки-лицеисты, профессора-радикалы и интеллигенты-социалисты захватили этот мир и заставляли нас приспосабливаться к их меркам и правилам, прежде чем выпустить нас в жизнь. «Не знаю, — говорил мой дед, — какое будущее ждет моих детей. Но хотелось бы хотя бы прошлое оставить им таким, какое мне нравится». Однако на горизонте, долгое время таком чистом, окрашенном в цвета верности и чести, уже забрезжили новые ценности, к которым мы не были подготовлены: правда и свобода.
Свободу мы ненавидели. Мы ее ни во что не ставили. Для нас она была связана с бунтом, с правом выбирать, с индивидуализмом и анархией. Пока власть была в наших руках, мы относились к свободе с недоверием и презрением. «Что касается терпимости, то для нее есть специальные дома», — любил повторять мой дед. Только под сильным давлением либералов и социалистов мы бывали вынуждены тоже, в свою очередь, ссылаться на столь ненавистную нам свободу. Нам по-прежнему было трудно признать ее в качестве принципа. Мы апеллировали к ней лишь из тактических соображений. Я слышал, что это именно моему делу принадлежит знаменитая фраза: «Я требую свободы во имя ваших принципов и отказываю вам в ней во имя моих принципов». Мы немного стыдились прибегать к демагогии и к свободе в наших попытках вернуться к истинным источникам незыблемого вечного и как бы лишь ненадолго нарушенного порядка. Но только вот разве был у нас выбор? В извращенном мире, где все пошло прахом, мы пользовались свободой лишь для того, чтобы восстановить власть. Поскольку заблудшие овцы своим количеством, силой и хитростью навязывали нам нестерпимую терпимость, приходилось пользоваться свободой, чтобы восстанавливать истину в море лжи.
Свобода была вопросом тактики. Истина же ставила много других проблем. Полагаю, что их можно свести к одной провокационной формуле: истина — это мы. Боюсь, что я немного преувеличил. Скажем иначе: она принадлежала частично Богу, а частично нам. С самого начала этих воспоминаний о временах минувших две области, два созвездия, два коктейля из реальности и мифов смущали меня одновременно и своим мощным присутствием, и своей двусмысленностью. Я не говорю здесь ни о нравах, ни о честности, ни об уме, ни о любви к людям. Все это изменилось, но мы чувствовали себя уверенно в более или менее однородных системах, где нам было легче чувствовать свое превосходство. Что сегодня труднее всего объяснить, поскольку нам и раньше тут не просто было разобраться, так это наши взаимоотношения с деньгами и с Богом. О деньгах я уже говорил, и к этой теме мы еще вернемся. Поговорим же сейчас немного о Боге.
Мы не были чрезмерно набожными. Слишком много мы знали пап, кардиналов, епископов, равно как и святых, слишком много их вышло из нашей среды, и поэтому мы смотрели на них с некоторой долей фамильярности. Эта фамильярность не мешала нам относиться к ним с уважением, почтительностью, преклоняться перед ними. Однако она предполагала сообщничество, некое соучастие в существовавшей системе и ее порядке. Мы уважали короля, поскольку он уважал нас. Мы уважали святейшего Папу Римского, поскольку он и собор кардиналов уважали нас. Мы были на равных. Между Церковью и нами, между Богом и нами существовали пакты о взаимопомощи. Мы были старшими сыновьями Церкви, помазанниками Господа. Все они нас защищали. В обмен мы их тоже защищали. Не хочу сказать, что это были отношения «ты — мне, я — тебе», ибо мы все же заранее и безоговорочно вверяли себя всем предписаниям Божественного провидения. Впрочем, в момент величайших катастроф становилось очевидным, что Церковь выделяла нас из толпы, относилась к нам иначе, чем к тем, кого презрительно называют паствой. Мы не смешивались с простыми прихожанами. Я не посмел бы сказать, что Господь стоял на одном уровне с нами, что он был нашим партнером, и уж тем более я бы не сказал, что он был нашим клиентом в римском значении этого слова, персоной, пользующейся нашей поддержкой. Нет. Конечно же, нет. Но он был у нас в долгу.
Однажды, будучи проездом в Риме, матушка моего деда должна была получить причастие из рук Папы Римского. За несколько минут до начала мессы некий кардинал сообщил ей, что Папа то ли болен, то ли занят, точно не знаю, но что старейшина собора кардиналов готов дать ей причастие. Прабабушка отказалась со словами: «Для нас или Папа, или ничего».
Оставили след в нашей истории и взаимоотношения монархии с иезуитами, и галликанство, и янсенизм, и соперничество Боссюэ и Фенелона, и борьба Филиппа Красивого с тамплиерами, и оскорбление в Ананьи, где объявили о пленении Папы Бонифация VIII. А также святая Клотильда, обратившая в христианство своего мужа, короля франков, Хлодвига I, дуб Людовика Святого, папские зуавы, обращение аббата Ратисбонна на похоронах дядюшки Альбера де Ла Ферронэ в Сан Андреа делле Фратте. Все оставляло на нас своей след, будто на бархате или на очень ветхой ткани. Не было такого прошлого — французского, католического, римского, — которое бы не оставило на нас своей неизгладимой печати. Преобладал то один из них, то другие. Кое-кого из представителей нашего семейства угораздило впасть в неистовую религиозность, в мистицизм, в святошество. Иные отклонялись скорее в сторону Вольтера. Этот последний, в отличие от Руссо или Дидро, не попал в черный список французских литераторов. Некоторые из наших, например мой двоюродный прадед Анатоль, очень ценили Вольтера, в том числе и за его антиклерикализм. Но большинство не впадало в крайности. Элегантность и верность обязывали. Мы любили Бога, поскольку он явно любил нас больше, чем других. Ведь было бы крайне невежливо не обнаруживать чувства благодарности к тому, кто издревле так много делал для нас! Быть может, за нашей верностью Папе Римскому, за бесчисленными поцелуями, которыми мы усыпали перстень архиепископа, за воскресными обедами с настоятелем Мушу скрывалось хотя и смутное, но очень давнее опасение, что Бог станет меньше любить нас, если мы будем меньше любить его слуг. И именно благодаря тому, что Елеазар избежал неволи у нехристей, благодаря тому, что единственный мужчина в семье не погиб под Азенкуром, благодаря тому, что двое из наших избежали гильотины, чего оказалось вполне достаточно, чтобы продолжить род, благодаря тому, что наш род стал пользоваться Господней милостью раньше Бурбонов, настоятель Мушу по воскресным вечерам обжирался нашими пышками под малиновым соусом, одновременно и легкими, и жирными, а посему нравившимися ему превыше всего остального. К концу своей жизни настоятель Мушу мне сам рассказывал, что, когда нашу семью постигало несчастье, например когда пришла в дом тетя Сара, когда женился дядя Поль, когда погиб под Верденом дядя Пьер, а на Дамской дороге погиб мой отец, вместо пышек под малиновым соусом по воскресным вечерам подавались на протяжении нескольких недель довольно безвкусные фруктовые салаты. Настоятель был уверен, и, возможно, он был прав, что это изменение в меню было своего рода местью. Быть может, наказывая настоятеля, мы наказывали Господа за то, что тот покинул нас. Когда дела налаживались или когда забвение притупляло боль, наше благочестие вновь одерживало верх. Мы прощали Господу Богу. Мы лобызали наказавшую нас руку. И настоятель Мушу вновь получал свои пышки.