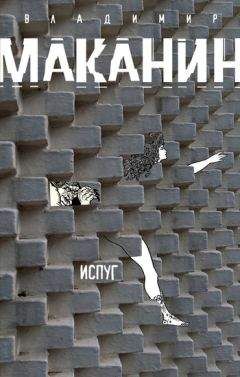Я отступил чуть в сторону, чтобы видеть его молодое лицо. Засмеялся – и внятно ему сказал:
– А кто сейчас адекватен?
На третью ночь луна забралась так высоко, что я на нее не смотрел. Я лег спать и решительно отвернулся к стене.
Луна выше – ночь светлее. Это так забирает!.. Это меняет мир. Меняет человека. Вот поэтому я лег, отвернувшись от всей лунной торжественности, и сразу же настроился на сон. Лицом к стене. Без размышлений… А потом вдруг встал, быстро оделся и вышел. Сначала к кустам боярышника. На тропу. А дальше тропа повела, ноги шли сами.
И надо же такому произойти в минуту моего там появления: единственное светлое окошко (в ее спальне) как раз погасло. Но вот что сначала!.. Сначала Аня к окну подошла, приблизилась и в заоконную темноту вгляделась. Я тотчас взволновался. Она смотрела. Она прилипла к окну на полную минуту, не меньше!
Однако, чтобы себя контролировать (урок Башалаева), я стал над собой и над своим воображением подсмеиваться. Подумать, мол, Аня подумала у ночного окна (иронизировал я), да только не обо мне, а о том битом маньяке. Которого она все еще боится. (Жалеет и боится.) О нем ее ночные мысли. А не о тебе, глупый старик!.. Так умело я себя осаживал. Бабец и луна. (Именно так, по-башалаевски.) Держал себя в узде – ирония, сарказм, все как надо. И я не понимаю, как это я опять направил туда шаги.
Я уже прошел калиткой. (Она подумала, подойдя к окну, все-таки обо мне…) Я уже обогнул дом, чтобы войти со стороны веранды. (Дверь там легкая, никакая.) Если ее муж уехал, машины нет. Но посмотрел ли я сквозь яблони в сторону их гаража? Вот этого я не помнил. (Ворота гаража в случае отъезда были бы слегка приоткрыты…)
Прихожая, как и в тот раз, мне показалась (при луне) огромной. Я повернул шаги сразу к спальне и, чуть робея, приостановился. Но луна так сияла! Разбрызгивала!.. Отвага и любовь переполняли мое старое сердце.
Я стоял на предпороге. Нет, я уже шагнул: стоял в трех, что ли, шагах от ее постели.
Но я не услышал в чуткой тишине дыхания спящей. Замер… Вместо сонных придыханий с той стороны, где подушки, возник ее, Ани, негромкий мягкий голос – она спросила: «Это вы?..» В лунной полутьме и тишине расслышалось совершенно неожиданное: «Это вы?..»
Простенько так, буднично спросила, чтобы меня (и себя) не напугать. Я сказал – «да». Что я еще мог. И стоял… застигнутый на месте воришка! Стоял весь вдруг в робости. (И в стыде за эту ночь. За высокую луну.)
И тогда она сказала (я же знаю: думала, она думала о маящемся старике, когда на миг подходила к окну):
– Идите ко мне.
Я вернулся в Осьмушник умиротворенный, тихий. Покой и счастливая слабость. Как вдруг со стоном-вскриком во мне прорвалось…
Надо же, как меня взволновало! Как разобрало. Всерьез и со страстью я себе доказывал, повторял, что есть же и во мне что-нибудь привлекательное, что бывает приманивающая стариковская красота… что Аня сама ждала… что в окно выглядывала!.. и что в конце концов ее муж тоже не гиацинт. Ей тридцатник, а ему-то полтинник! (Могла и во мне увидеть.) Быстро-быстро я говорил, спешил сказать (сам себе), что нет, нет, нет!.. не только из-за ее испуга и ее жалости ко мне. Сам акт был так скромен, тих, это правда! – нас словно бы притушило, приструнило луной, вдруг засиявшей в окна. Но ведь как-никак любила! Не только же из боязни за меня и за мою непредсказуемость! Меня мучил этот рассудочный итог. Я что-то бормотал. Я до боли прикусывал губу. (И как в детстве, не соображая, насасывал солененькое.)
Бормотал, уверял себя… А насмешливые и злые зубы-зубчики знай подгрызали старику его нелепое сердце. (И луна спряталась. Не хотела, подруга, очной ставки.) Я сел прямо на крыльце, ноги в траве. Я даже курить не мог. Думать не мог. Пожалела? Ну да – пожалела. Это Аня. Этакий шрам на ее психике. (Чтоб у меня из оторванного уха не прыскала струйка пульсирующей крови?.. Чтоб с отбитыми почками жалкий старик не вскрикивал, мочась в общественном туалете: «О-ёй. О-ёёёй».)
Телохранители были в двух шагах. Она предпочла сдаться влюбленному старикашке, чем поднять среди ночи шум и видеть, как старикашка разевает от боли немой рот. Когда те двое месят его кулаками… Рвут ухо… Выбор у нее был.
Если думать о себе долго, думать напряженно и жестко, то к душонке (к своей) свирепеешь. И как ни пристраивай к душе самооправдание или находчивую мысль, они неинтересны.
«Ты чё, ты чё! Ты же прикольный старик!» – как-то вяло подбадривал я себя словами женщины (это казалось важным!) – словами медсестры Раи. Прикрываясь ее добротой, как охранной грамотой. Прикрываясь простецкой добротой одной женщины от напугавшей меня доброты другой.
Я, видно, все еще бормотал. (Со всяким бывает.) Это как заклинание-самоделка. Я чуть ли не затверживал эти и другие обнадеживающие меня слова, сидя на боковине крыльца. Свесив в траву ноги.
Но вот проснувшийся Олежка, рослый, стоя в одних трусах за моей спиной, спросил несколько насмешливо. Он позевывал:
– Это вы, – (зевок), – про себя, дядя?
То есть что я прикольный и что вообще неплох собой старикан. Это даже сонного его развеселило.
– Неужели про себя?.. Дядя! Вы только не сердитесь, но вам следует знать правду. Вы старый козел.
Он позволял себе такое. Вернувшийся с войны, он считал, что человека лечит только принижающая его правда. Что она врачует. Именно она, правда-матка, отучит старика от ночных глупостей. (Называлось правдой в полном объеме. Он выудил ее из телеящика. Как-то услышал там болтливого врача и закричал: «Дядя! Дядя!» – звал меня к экрану.) Старых психов тыкать нюхом в их собственное дерьмо – модное лечение, кто, мол, этого не знает!
– Вы плохо одеты… Вы часто неряшливы… Пахнете слегка, чтобы не сказать, воняете… Вы же себя не видите со стороны.
Он не прав. Не прав! У меня старый, но приличный костюм. У меня всегда белая отглаженная рубашка. Само собой, я подстригаюсь, моюсь, я чист…
– И не обижайтесь, дядя.
– А кто обижается, мой мальчик? Все честно.
– Идите спать… Хлебните, если хочется, водочки – и в постель. Я тоже… пойду-уу. – Олежка медленно зевнул.
Я поднялся с крыльца. И точно, пора. Рассвет серенький – краски блеклые. Рассвет, похоже, тоже лечили словом; принизили, как смогли. Но все равно рассвет.
– Вы еще держитесь, но вот-вот… Слышите, дядя, – вот-вот. В этом правда жизни. Вот-вот изо всех живых дыр начнет сыпаться песок…
Он продолжал меня так осаживать. Считал, что правда жизни одна – и именно такая. Но я вдруг нашел, что ему на его правду ответить.
Я сказал:
– Вот-вот к каждому приходит по-разному, мой мальчик.
И добавил:
– Мой песок посыплется, когда я уже буду в земле сырой.
– А вдруг – нет? – Олежка улыбнулся.
Этот молодой засранец (в том смысле, что молод слишком) еще и присвистнул. Все равно люблю его. Родной человек. Прямота солдата.
Небось подумал: «Что вы, что вы, дядя! – в какой такой сырой земле?!. По нашим временам сырая земля – это слишком. Дороговато это обойдется. Даже не надейтесь. Я вас сожгу, дядя». Мы иногда с ним жестко говорим. Зато любим друг друга.
Луна чеканила черты ее лица – и какого лица! Аня очень-очень легко, однако же, отвечала мне лаской. Ее рука сжимала мою. Она (ее рука) слышала, как я задыхался слепым счастьем. Она (ее рука) в ту ночь разговаривала со мной, незамысловатая азбука пожатий. Ничего больше не помню. (Ничего и не надо помнить.)
Долго ли я был там – часа два? Как это я, старый, в ту ночь не дал дуба!.. Помню все же, как она меня спросила. Подняв к луне мою забинтованную в кисти руку, Аня рассматривала – что это вы? Поранились? Где?.. А я только тупо и счастливо уставился на сияющий в окне желтый диск.
Негромко шепнула мне на ухо, что, может быть, хватит. Он может рано вернуться… и выпроводила меня.
Два дня Аня куда-то отлучалась, они с мужем раз от разу садились в машину и уезжали. (Подыскивали себе? Смотрели?..) А потом они вернулись – и в скорые полчаса съехали совсем. Сменили дачу.
Я видел, как те два неброских, но крепких телохранителя выносили чемоданы. (Я ходил отдаленными кругами и смотрел. Я, помнится, все спотыкался.)
Хозяин Жуковкин (сдавал им дачу за изрядные деньги) искал теперь новых жильцов. Про только что съехавших, про Аню и ее мужа, говорил с полупрезрением и полувосхищением:
– Надо же, всю мебель запросто оставили!.. Взяли – и подарили.
За кого проголосует маленький человек
– А после – у меня настроение портится.
– Почему оно портится?
– Не знаю.
– А что значит «после»?
– Ну… Ну, когда все кончено.
Послушать со стороны, мы говорим о чем-то интересном.
А говорим мы о выборах. Мой здешний приятель (Петр Иваныч) цепок, как клещ. Спрашивает до упора. Настроение избирателя портится «после» – это через месяц? Или через год? Или «после» – это аж к следующему голосованию?.. А я не умею ему объяснить. Я и себе объяснить не умею.