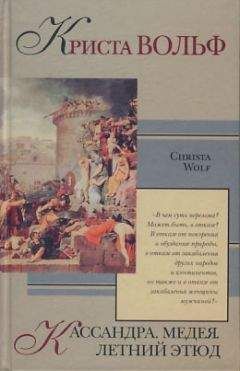Вечером за пиршественным столом можно было на глаз определить различные центры притяжения, это тоже была новость. За моей спиной Троя изменилась. Гекуба, моя мать, была не на стороне Эвмела. Я видела, как застывало ее лицо, когда он к ней приближался. Анхиз, многолюбимый отец Энея, казалось, возглавлял противную Эвмелу партию. Дружески и открыто разговаривал он со сбитым с толку Менелаем. Приам, казалось, хотел угодить всем. Но Парис, мой любимый брат Парис, уже принадлежал Эвмелу. Стройный, прекрасный юноша предался этому грузному человеку с лошадиным лицом.
О Парисе мне много приходилось думать, и, если я правильно заметила, он жаждал уважения, и ему приходилось наседать, напирать, настойчиво требовать. Как он изменился. Его лицо странно исказилось. Напряженные складки легли возле носа, придали ему непривычное выражение. Светлокудрый Парис среди темноволосых детей Гекубы! Эвмел заставил замолчать шепоток о неизвестном происхождении Париса. Прекрасно, Парис царского происхождения, он сын нашей глубокопочитаемой царицы Гекубы и бога Аполлона.
Неловко было видеть, как манерно Парис вскидывал голову, когда кто-нибудь намекал на его божественное происхождение, потому что у нас во дворце такое утверждение следовало понимать как некое преувеличение. Кто не знал, что дети, рожденные после церемонии лишения девства в храме, считались детьми божественного происхождения.
Дворцовые стражи принимали угрожающий вид, если кто-нибудь, пусть даже сам Гектор, наследник царского престола, поддразнивал Париса его именем: сума, сумка. Но ирония была нашим любимым светским развлечением. Значило ли это, что теперь нельзя уже подшутить и над планом повесить ветхую пастушью сумку рядом с лирой и луком бога в храме Аполлона? Жрица Эрофила, та тонкогубая, с пергаментным лицом, которая меня терпеть не могла, не дала совершиться этому святотатству. Тем не менее отряд Эвмела настоял на том, чтобы на южных воротах, через которые Парис вернулся в Трою, поставили чучело медведицы в знак того, что медведица вскормила царского сына Париса, брошенного своими родителями.
И этому бедному брату требовалось столько девушек! Ясно, все мои братья находили себе подруг по вкусу, в счастливые времена все во дворце благожелательно обсуждали любовные похождения царских сыновей, а девушки, по большей части из низших слоев, среди них и рабыни, не чувствовали себя ни обиженными, ни польщенными желаниями моих братьев. Гектор, тот держался в стороне, его могучее, неповоротливое тело охотнее всего пребывало в покое. С изумлением глядели мы, как вопреки своим склонностям тренировался он для войны. И для Андромахи. Различия тут не было. Как он умел бегать, о боги, как он бежал, когда Ахилл, этот скот, гнал его вокруг крепости.
Никто из нас — ни прорицательница, ни толкователь оракула — не ощутил даже дуновения предчувствия. Больше всего привлекали к себе внимание дворца не Эвмел, и уж совсем не Парис, и даже не гость Менелай. Дворец устремил свой взор на Брисеиду и Троила, такую пару, что каждый, видя их, невольно улыбался. Брисеида была первой любовью Троила, и никто не мог не поверить ему, что и последней. Брисеида, чуть старше его и зрелее, казалась не в состоянии осознать свое счастье. С той поры, как отец ее нас покинул, ее никогда больше не видели веселой. Ойнона, проворная, стройная, гибкая красавица с лебединой шеей, на которой сидела красиво вылепленная голова, Ойнона, привезенная Парисом с гор — на кухне на нее молились, — выглядела подавленной. Она прислуживала за столом царской чете и гостю, мне было видно, что она принуждает себя улыбаться. В одном из переходов я настигла ее, увидела, как одним глотком она выпила кубок вина. Во мне поднималась дрожь, но я могла еще ее удержать. Я не удостоила взглядом фигуры, жавшиеся по углам, и спросила Ойнону, в чем дело. Вино и заботы рассеяли ее робость передо мной. Парис болен, проговорила она побелевшими губами, и ни одно из ее лечебных средств не помогает ему. Ойнона, которую прислуга считала в прошлой жизни водяной нимфой, знала все растения и их действие на человека. Больные во дворце обращались обычно к ней. Она не знает, что за болезнь у Париса, и это пугает ее. Он ее любит, у нее есть несомненные доказательства этого. Но и в ее объятиях он громко повторяет имя другой женщины: Елена, Елена. Афродита ему обещала Елену. Но разве слышал хоть кто-нибудь на свете, чтобы Афродита, наша любимая богиня любви, гнала мужчину к женщине, которую он вовсе не любит? Даже не знает. И хочет владеть ею только потому, что, по слухам, она самая красивая женщина на свете. И потому, что обладание ею сделает его первым изо всех мужчин.
Я отчетливо слышала в трепещущем голосе Ойноны хриплый, резкий голос Эвмела, и моя внутренняя дрожь усилилась. Как каждому человеку, мое тело подавало мне знак, и я, другая, чем другие, была не в состоянии не заметить этого знака. Чуя приближающуюся беду, я вернулась в зал, где одни становились все тише, а другие — сторонники Эвмела — все шумнее и наглее. Парис, уже выпивший больше, чем следовало, вынудил Ойнону дать ему еще кубок вина, который он проглотил залпом, и громко заговорил со своим соседом Менелаем о его прекрасной жене Елене. Менелай, трезвый и уже немолодой человек, склонный к полноте, с залысинами на лбу, не искал ссоры, он вежливо отвечал сыну хозяина, пока вопросы того не стали столь дерзкими, что Гекуба, необычно разгневанная, приказала своему невоспитанному сыну замолчать. Тишина воцарилась в зале. Только Парис вскочил с места и закричал. Как? Он должен молчать? Снова молчать? Все еще молчать? Унижаться? Оставаться невидимым? Ну нет! Эти времена кончились. Я, Парис, вернулся не для того, чтобы молчать. Я, Парис, отниму сестру царя у врагов. Если же она откажется вернуться, найдется другая. Красивее. Моложе. Благороднее. Богаче. Это мне обещано, пусть все знают.
Никогда прежде не стояла во дворце Трои такая тишина. Каждый чувствовал — мера переполнена. Разговаривать так не смел никто из нашей семьи. Только я. Только я одна «видела». Но «видела» ли я? Как это бывало? Я чувствовала. Испытывала — вот точное слово, это был опыт, нечто распознанное мною, когда я «видела». То, что завязалось сегодня здесь, было началом нашего конца, истоком крушения Трои. Время застыло. Никому не пожелаю такого. Ледяной холод. Полное отчуждение от самой себя, от всех. И наконец, ужасающая мука, когда голос прокладывает себе дорогу из меня, через меня, разрывая меня, и освобождается, вырывается наружу. Свистящий голосок, от которого кровь застывает в жилах и волосы встают дыбом. Он усиливается, крепнет, становится все страшнее, принуждает мое тело дергаться, швыряет его, сводит меня с ума. Но голос не обрывается. Он свободно висит надо мной и кричит, кричит, кричит. «Горе, — кричит он. — Горе, горе. Не отпускайте корабль в плавание».
И тогда упала завеса перед моим рассудком. Открылась бездна. Мрак. Я падаю. В горле бурлит и клокочет. На губах выступила пена. По знаку матери стража — люди Эвмела? — подхватывает меня под мышки и тащит из зала, где снова так тихо, что слышно, как мои ноги волочатся по полу. Дворцовые врачи пробиваются ко мне, Ойнону не пускают. Меня запирают в моей спальне. Растерянным гостям говорят, что мне нужен покой. Я должна прийти в себя, это происшествие значения не имеет. Среди братьев и сестер мгновенно распространяется слух, что я сошла с ума.
Народ, рассказали мне потом, ранним утром с ликованием приветствовал отплытие Менелая и одновременный выход в море третьего корабля и толпился там, где делили мясо жертвенных животных и хлеб. Вечером город снова наполнился шумом. Во внутренний дворик, куда выходили мои окна, не доносилось ни звука, все проходы были перекрыты. Небо, на которое я глядела застывшим взглядом, днем и ночью казалось мне черным. Есть я не хотела. Няня Партена вливала мне в горло маленькими глотками ослиное молоко. Я не желала больше кормить это тело. Я желала этому преступному телу, где обосновался голос смерти, изголодаться и иссохнуть. Безумие — вот конец мукам притворства. О, я наслаждалась им, я куталась в него, как в тяжелое покрывало, и смотрела, как безумие слой за слоем пронизывает меня. Оно было мне и пища и питье. Черное молоко, горькая вода, кислый хлеб. Я вернулась сама к себе. Но мне это ничего не дало.
Быть вынужденной нести в своих словах смерть: ужас, ужас. Я не могла остановить свое безумие. Пульсирующая бездна выплевывала и всасывала, выплевывала и всасывала меня, никогда не требовалось мне сил больше, чем теперь, чтобы пошевелить хотя бы мизинцем. Я задыхалась, ловила ртом воздух. Бешено и жестко колотилось сердце, как колотятся сердца борцов во время борьбы. Во мне самой тоже шла борьба, я наблюдала за ней. Два противника встретились не на жизнь, а на смерть и выбрали своим стадионом вымершие пространства моей души. Только безумие спасало меня от непереносимой боли, какую они могли бы мне причинить. Я крепко цеплялась за безумие, а оно за меня. В самой глубине моего существа, там, куда не проникало даже оно, держалось знание ходов и ответных ходов, которые я себе позволяла «далеко наверху»: ирония есть в каждом безумии. Выигрывает тот, кто умеет ее распознать и использовать.