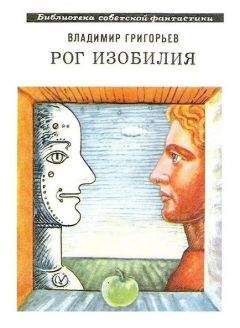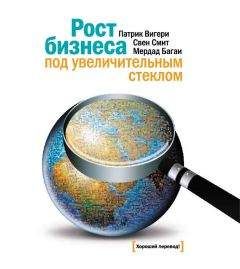– Не так. А вот так, – произнес он.
Она проходила между грядок с капустой, и сейчас он учил ее не рыхлить землю, а нести и изгибать свое тело. Она шла мелкими шажками между холмиков земли, которую он накидал для будущих грядок, но поле его зрения заполняло только колыханье ее тела. Мотыжа оттаивающую землю, он не часто вскидывал глаза, но против воли видел перед собой только очертания ее фигуры.
Его тоже учили. Она в нем отпечаталась накрепко.
Иногда она, откусив большой кусок хлеба, отрывала взгляд от тарелки и с набитым ртом говорила что-то неразборчивое. Он слушал, а потом, оставшись один, вспоминал этот голос. Ее слишком жадный голос. Потому что она и вправду была жадной, жадной до хлеба и до его однажды открытой для себя любви.
Всем своим существом она поглощала его любовь и злилась на заговоры, которые устраивала жизнь, чтобы отнять у нее эту пищу, не дав насытиться. Через окно она вглядывалась в темноту, слышала звяканье металла, хлест кожаного кнута, видела на фоне звезд темные, размытые очертания повозки с грудой капусты.
– Я налила воды в бурдюк, – кричала она.
Мужчина бился над тугими пряжками подпруги, и холодная кожа не поддавалась его рукам. И он все топтался и топтался вокруг лошади и повозки, готовясь к путешествию с капустой.
– А под бутерброды я положила кусок пирога, – говорила она вдогонку.
Только, чтобы что-то сказать.
Потому что у нее зябли плечи и без него было зябко в постели, и уже еле слышалось последнее цоканье копыт по камням, и музыка скрипучей повозки затихала вдали. И невозможно вернуть его теплое тело в покинутую постель.
Иногда после рынка он оставался в городке на целые сутки, если у него были там дела или требовалось что-то купить.
И тогда покинутая женщина снова становилась худенькой девушкой. Так много значившая в ее замужней жизни мебель выглядела в пустом доме простой древесиной. Ее нехитрые детские развлечения оказались совсем жалкими на этой поляне среди леса. Она слонялась вокруг дома, выводила узоры на рассыпанном сахарном песке или, наклонясь к самой земле в недальнем подлеске, подолгу, в упор смотрела на муравья.
Порой она бормотала слова, с которыми ее учили обращаться к богу.
Она просила печального, бледного Христа о каком-нибудь знаке свыше. На исцарапанное красное дерево стола, который ее муж купил на аукционе, она клала библию, свадебный подарок пасторши. Она уважительно перелистывала страницы. Вслух или про себя читала слова. И ждала, что религия согреет ее душу, наполнит и поддержит. Но чтобы этого достичь, наверно, нужно делать еще что-то, чему ее не учили, и так как ей это было не дано, она вставала, охваченная жаждой деятельности, как будто тайна могла ей открыться в ритуале домашних дел или просто в бесцельной ходьбе по дому. И смутно надеялась, что божья благодать, как гипсовый голубок, внезапно упадет ей в руки.
Но она так и не дождалась божьей благодати, про которую ей вещали среди цветных стекол. Оставаясь в одиночестве, она была одинокой. Или же в небе сверкала молния, предупреждавшая ее о бренности всего живого. Печальный Христос превращался в бородатого старика, который, надув щеки, плевал смертью. А милостью божьей был стук колес под вечер базарного дня. А любовью господней был долгий поцелуй в губы. Она была насыщена любовью господней и принимала ее как должное, пока, лишившись ее, не вспоминала о боге. Такой она была нестойкой.
Женщина Эми Фиббенс растворилась в мужчине Стэне Паркере, за которого она вышла замуж. А мужчина – мужчина поглотил женщину. В этом была разница.
Стэн Паркер, в костюме из жесткой ткани, который он надевал, когда ехал в город, даже не догадывался, что сил ему прибавляет каннибальство. Он поглощал эту пищу, и теперь, когда ему случалось быть на людях, тело ему не мешало, хотя прежде он всегда стеснялся своей неуклюжести. И слова теперь не застревали у него на языке. Он по-прежнему был медлителен, но теперь эта медлительность претворилась в достоинство и тем и осталась.
В городке, где люди заключали сделки, закупали муку и сахар, напивались, бахвалились и блевали под балконами баров, Стэн Паркер скоро стал пользоваться известностью. Он не старался выделиться, но когда нужно, охотно высказывал или выслушивал мнения. Многие знали его в лицо. Когда он получал сдачу, на его руки со струпьями на костяшках пальцев смотрели с уважением.
Иногда он стоял в баре, в окружении людей, под влажной пеленой пивных паров и слушал хмельные небылицы. Подвыпившие мужчины, задубелые и усатые, благодушные и толстогубые, наивные и туповатые, бахвалились, не зная удержу. Их коровы давали столько молока – хоть залейся. Таких окороков, бекона и мяса никому другому от своих свиней не видать. Эти люди с закаленными засухой, наводнениями и пожарами геройскими мускулами совершали неслыханные подвиги. Они вылавливали огромных рыбин и убивали змей. Они подымали на себе волов и сваливали в кучу. Они откусывали уши у разъяренных лошадей. Они съедали и выпивали, теряли и наживались больше всех прочих. Их голоса вразнобой вели бесконечные рассказы о невероятных деяниях в сумрачной, коловоротной, волглой, пустословной атмосфере всех пивных на свете. Это была атмосфера безудержного вранья. Это была атмосфера развилистого дыма, который тянулся вверх и блуждал, и разрывался, и опять тянулся вверх, колебался и таял. Если дым начинался с огня, то огонь терялся где-то в цветистых разводах хвастовства.
Стэн Паркер нередко слушал в пивных такие рассказы, но не испытывал никакой потребности хвалиться своей жизнью. Какая она есть, такая и есть. И когда за ним раскачивались створки двери, кое-кто из оставшихся недоумевал – с чего вдруг их так расположило к себе его лицо, когда он бирюк, этот малый. А Стэн Паркер тем временем шагал под кружевными балконами, и дождавшийся его пес трусил следом.
Жизнь рыночного городка Бенгели не убедила Стэна Паркера, несмотря на такие солидные доказательства, как красное здание суда и желтая тюрьма. Он ехал по прямым улицам, где мужчины старались в чем-то себя убедить, и мимо каменных домов, где под перечными деревьями секретничали девушки, потягивая малиновый морс. Временами он фыркал носом, словно сгоняя мух. Повозка вызывающе скрипела по окраинным улочкам. Он сидел как истукан, готовый скорее лечь костьми, чем поверить в преимущество города.
И улыбался про себя, думая о своей потаенной жизни и о самом важном в ней и самом душевном – о своей жене.
Однажды, вторгаясь в его внутреннее уединение, на середину дороги выбежала старуха в мятом чепце и спросила:
– Скажи, сынок, где живет Делани? Не то на Смит-стрит, не то на Брод-стрит, забыла я на какой, память у меня уж не та стала. Он подрядчик, дома строит, большой человек, недавно сюда переехал. Его дочка замужем за сестриным сынком.
Молодой человек, знавший Делани, хоть и только по виду, хмуро сказал:
– Я нездешний, матушка, – и сделал непроницаемое лицо. Она застигла его врасплох. Ему стало стыдно своих слишком откровенных мыслей.
– А, – разочарованно скривила она рот над щетинкой бороды. – Я думала, ты знаешь Делани. Такой видный из себя мужчина.
Но молодой человек покачал головой. Он все еще был смущен. Немного погодя он уже корил себя и с беспокойством думал, что станется со старухой, но с мыслями о самом тайном не расставался, ведь в конце концов они-то и были для него источником силы.
В отрадной тишине, в ласковом шелесте деревьев, в запахе горячей кожаной упряжи молодой человек ехал домой после рыночных дней. Дали вливались в его душу. И душа начинала раскрываться. На память приходило множество простых и удивительных вещей – мать счесывает гребенкой волосы из головной щетки, воины на зубчатых стенах Элсинора, дыханье пегой коровы на рассвете, рты, мусолившие слова молитв, которые не проникали внутрь. Все богатства памяти раскрывались ему в такие утра.
Его воспитывали в уважении к религии, но он пока еще не нуждался в боге. Он в своем топорщившемся костюме не признавал скрытой могущественности молитв. Он был еще силен. Он любил огромное гладкоствольное дерево возле своего дома, которое пощадил его топор. Он любил. Любил жену, показавшуюся из-за их хибарки, в руке у нее было ведро, на голове широкая шляпа с соломенными спицами, как у колеса, а под шляпой худенькое ее лицо. Он любил, и любил сильно, но и сила и любовь все еще были материальными.
– Ну, – сказал он, пряча свою любовь, – как тут дела? Приходил кто-нибудь?
– Да никто, – ответила она, застенчиво глядя на него из-под полей своей шляпы и не зная, должна ли она первая подать какой-то знак. – А чего ты ждал? – спросила она. – Паровоз, что ли?
Ее голос слишком резко ворвался в прохладную тишину. Она стояла, поскрипывая ручкой ведра, но этот звук не вспугивал тишину. И ей стало совестно за свой голос.
Ей было совестно, что она неспособна сказать то, что следовало бы. Весь день она слышала коровий бубенчик, смеющийся голос птицы, присутствие своего молчаливого дома. И мысли у нее в голове щебетали так громко, а сейчас куда-то разбежались.