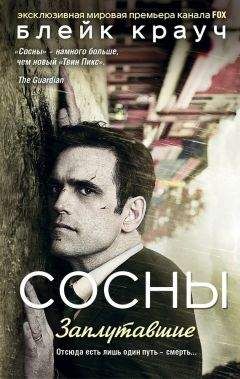Через ветровое стекло на него смотрели Коттон и Гуденау. Из кузова выглядывали Шеккер и братья Лалли.
В свете фар Тефт стоял, как в свете рампы. Серебряный орел поблескивал на его фуражке. На лице у Тефта блуждала улыбка.
— Как вам это понравится? — жалобно произнес Тефт. — Я и не поинтересовался, полный ли бак… Верьте или нет, мне уже приходилось угонять машины, и проблем с этим не было. Если кончался бензин, я угонял новую.
Улыбка сползла с его лица.
— Я конченый человек, — сказал он. — Правда, конченый.
Тефт капитулировал. В знак раскаяния он выставил свои длинные руки и прихлопнул ими по своим столь же длинным ногам. Потом распахнул на груди куртку.
— Предаю себя в руки ваши. Принесите меня в жертву господу нашему Бензину.
И, отвесив низкий поклон, с мученической миной на лице он распростерся на белом алтаре капота.
— Вырвите мое сердце, — добавил он, — и сожрите его.
Внезапно рампа погасла, и Тефт пропал в темноте. Это Коттон выключил фары. Лучше бы он этого не делал. Над ними нависла ночь. И их обуял страх перед ночью, а еще больше — перед истинным смыслом пустого бака. Наступила тишина — слышно было, как щелкает остывающий двигатель. Как потерпевшие кораблекрушение, они сидели молча, подавленные темнотой и новым, позорным доказательством их беспомощности.
— Простите, ребята, — произнес Тефт. — Ради Бога, простите.
— Простить? Это тебя-то простить? — взорвался Коттон. — Да на кой нам ляд тебя прощать?
Шеккер и братья Лалли выпрыгнули из кузова, а Гуденау выскользнул из кабины. Но слова Коттона лупцевали их, словно кнут.
— Недоделки! Недоделки! Верно Лимонад говорит — мы недоделки! Все у нас идет вкривь да вкось… Зачем только мы землю топчем!
Фраза оборвалась на середине. Не понимая, в чем дело, они приблизились к кабине. У Коттона случился обычный его приступ кататонии. Прямой как палка, он сидел за рулем, нижняя челюсть отвисла, руки впились в рычаг коробки скоростей — казалось, он ведет грузовик дальше, казалось, достаточно силы воли и рожденной бешенством ярости, чтобы заправить бак и катить дальше.
Мать Коттона трижды выходила замуж, трижды разводилась и теперь на ее иждивении жил мужчина на десять лет ее моложе. Из этих четырех любимцем ее был второй муж, богатый и пожилой владелец подшипникового завода, ибо только благодаря его щедрости после развода она обзавелась домом в Рокки-Ривер, вступила в кливлендский яхт-клуб и приобрела финансовую независимость. Второй муж был любимцем и для Джона Коттона, потому что он состоял членом рыболовного клуба в Квебеке и однажды, когда Джону было десять лет, повез туда жену и пасынка на ловлю форели. Из Норт-Бея, Онтарио, они вылетели на гидроплане и совершили посадку на озеро, рядом с охотничьим домиком. На следующее утро Джон отправился с отчимом на рыбалку. Мальчик ловил на блесну, а отчим сидел на веслах. Джон рыбину за рыбиной подсекал квебекскую красную речную форель, называвшуюся красной потому, что в бурой воде брюхо форели окрашивалось алым. Их сносило течением, а на берегу стояла лосиха с лосенком и завтракала листьями кувшинок. Утро было прозрачное и бодрящее. Мальчик вдруг почувствовал, что нигде и никогда ему еще не было так хорошо, и желал только одного — чтобы так было вечно. Отчим улыбнулся ему:
— Ты отличный парень, Джон. Жаль, нам не придется жить вместе.
— Ты с ней разводишься? — спросил мальчик.
— Похоже на то. Ей нужен мужчина помоложе. И денег побольше — не дают ей деньги покоя.
— Жаль, — сказал мальчик.
— Может, она тебя мне уступит, если заплатить как следует?
— Может быть, — ответил мальчик.
Когда они вернулись в охотничий домик, мать, которой уже осточертел Квебек, потребовала, чтобы на следующее утро они вернулись в Кливленд. Муж: и сын сопротивлялись. Она устроила сцену и победила.
В ту ночь Джон Коттон, прихватив молоток и шило и раздевшись догола, нырнул в ледяную воду и подплыл к гидроплану, стоявшему на якоре вдали от берега. Набрав воздуху, он поднырнул под самолет и пробил дыру в одном из поплавков.
Наутро выяснилось, что гидроплан накренился на одно крыло. Пилоту пришлось пешком добираться через лес до Де-Ривьер и по телефону вызывать механика из Норт-Бея. На ремонт ушло три дня, и за это время Джон Коттон поймал тридцать одну форель.
Понимая, что он намертво вцепился в руль и рычаг, остальные пятеро отвернулись и стали ждать, когда кончится припадок.
Когда припадок кончился, когда Коттон пришел в себя, писуны уже отдалялись друг от друга. То, что еще несколько минут назад было сплоченной группой, превращалось в неорганизованное стадо. Как шарики перекати-поля, они раскатились по разным углам грузовика. Странники в пустыне сомнения, они слонялись без цели, погруженные в себя, не помня об общем деле, оставшись один на один с роем своих нелепых забот. Коттон кожей почувствовал, как они напряжены. Хвати у него духу отмочить такую шутку, он нажал бы на клаксон, и они вспорхнули бы с земли, как вспугнутые птицы. Коттон вслушался в их слова. Ну вот, снова здорово, вздохнул он, пошло-поехало…
— Я устал, — произнес малыш в ковбойской шляпе, держа под мышкой подушечку и не вынимая изо рта пальца. — Я здесь, между прочим, самый маленький.
Мальчик в кепочке для гольфа писал в кустах мансаниты.
— Ох, жрать охота, — жаловался он. — Дождались бы тогда гамбургеров, с собой бы их взяли. Маковой росинки ведь во рту не было…
— Я, может, больше вашего жрать хочу, — проскулил парнишка с индейской повязкой на голове. — Вы хоть ужинали, а меня ужином-то и стошнило.
Парень в немецкой фуражке кругами ходил вокруг грузовика.
— Я машину добыл. Я баранку крутил. И я же за бензин отвечать должен?
— А я вообще жалею, что с вами связался, — заныл другой мальчишка в ковбойской шляпе, только повыше ростом. — Виноват я, что ли, что у меня братец чокнутый?
— Я телик хочу посмотреть, — не обращая на эти слова внимания, произнес его брат. — Без телика долго жить вредно.
— Вот бы сейчас да в Лас-Вегас, — заявил парнишка в кепочке для гольфа. — Моему папаше в Вегасе такое мясо жарят…
— Вот вернусь домой, — продолжал тот мальчишка в ковбойской шляпе, что постарше, — и целую неделю просижу у телика как пришитый. У меня свой телик, цветной.
— А как я им шину продырявил? Бум! — расхвастался юный Роммель. — И как это я в тире мажу — непонятно!
— Да, здорово было, — признал мальчишка в индейской повязке. — Тому парню жить оставалось считанные минуты. Бац — и готов. Полный мрак!
Они ныли, они куксились, они совсем достали Коттона. Ладно, подумал он, ладно, еще поглядим. К черту декорации — посмотрим, смогут ли они выжить в реальном мире. К черту вестерны — посмотрим, хватит ли у них силенок на настоящее дело. И если не хватит, если они сейчас поднимут кверху лапки, пусть все катится к чертовой бабушке: и весь их план, и они сами. Потому что они, если не накопили после такого лета силенок, не воспользовались всем, что я для них сделал, просто прирожденные неудачники, настоящие недоделки. А вот если сил им хватит, если они хотя бы попробуют обойтись без меня, значит, рубеж взят, они победили и, вернувшись домой, станут людьми и справятся с чем угодно, даже с собственной семьей.
Коттон вылез из кабины. Обойдя грузовик спереди, он снял каску и поставил ногу на бампер. Остальные покорно приблизились и присели на корточки вокруг Коттона, как в тот раз в сосняке.
— Докладываю обстановку, — сказал Коттон. — В том, что кончился бензин, виноват не Тефт — виноваты все. Но это ставит под угрозу срыва всю операцию.
Им осталась всего миля пути, продолжал он, но теперь, без машины, приходится заглядывать вперед. Есть две возможности. Вернуться на шоссе № 66, автостопом добраться до Флагстаффа, увести еще одну машину, доехать на ней до Прескотта, отыскать оставленных лошадей и воротиться в лагерь до света. Никто ничего не узнает. Никто ничего не заподозрит. Если же двигаться дальше и выполнить задуманное, время будет потеряно, в лагерь они к утру не поспеют, начальник будет с пристрастием выспрашивать, где они пропадали, и, даже если они будут молчать как мертвые, в газетах он вычитает, что произошло в заповеднике, и почует, что дело нечисто: выяснит насчет грузовика, угнанного в Прескотте и брошенного здесь, а во Флагстаффе, конечно, опознают и их самих и грузовик — и тогда писунам придется туго, начнутся неприятности и с лагерным начальством, и с полицией, и с родителями. Вот такие дела. Возвращаемся домой и, если повезет, укладываемся в график или двигаем дальше, и нас ловят за руку. Как лучше?
— Так что давайте голосовать по новой, — заключил Коттон. — Я вам уже сказал: на этот раз я вас за собой тянуть не буду. Но вот что я хочу вам сказать напоследок — об этом вы, наверное, не задумывались. Само собой, я знаю, с чем вы столкнулись сегодня… то есть уже вчера. Знаю, как это на вас повлияло. И этой ночью все мы хотим кое-что сделать — иначе нас бы здесь сейчас не было. Но если мы надеемся в результате стать героями какого-нибудь поганого вестерна, то этого не случится. Остальным на это начхать. Скажу больше, кое-кто так обозлится, что нас и шлепнуть могут. Так что это важно только для нас самих. И не забудьте: через три дня лагерь закроется, мы разъедемся. И может быть, больше никогда не увидимся. Коттон снял ногу с бампера: