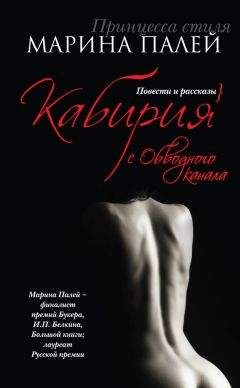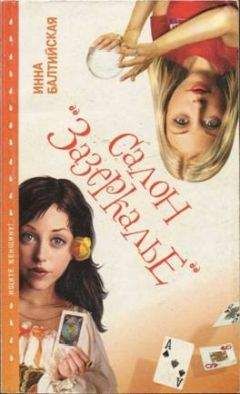– Так это же рак вилочковой железы, – сказал врач, – один случай на миллион населения. А у нее, – добавил он, – вот, все же написано: с голову ребенка.
Как смог туда проникнуть рак, в этот запертый объем, где загнанным зверем взламывало ребра готовое лопнуть сердце? Туда, где в чудовищной давильне разбухших легких еле-еле пробивалась тончайшая струйка дыхания? Туда, в грудь, к которой эскулапы приникали ушами, глазами, перстами, приборами – каждодневно?
Или Господь Бог, словно кухарка, раздраженная живучестью полудохлой мухи, схватил первое потяжелей, что попалось под руку, – и хрясь!.. Чтоб уж наверняка... Да не перебор ли это?!
А может, Монька просто вытянула не тот билетик? Вот ведь: разбросана кучка экзаменационных билетов, она взяла один... побледнела... А ты рискни, подмени, может, не заметят! А то – пусть снижают балл – брось этот, тяни с разрешения другой! Вдруг повезет? Не бывает, чтоб два раза... Перетяни! Перетяни билетик!..
Широкоплечий полковник отказался от Раймонды раньше, чем я узнала диагноз. Из-за этого Моньку и отправили «санировать ротовую полость». Родителям сразу сказали, что дело безнадежно, но из какого-то старомодного милосердия, а скорее всего, просто по халатности – и оттого, что остальных Монькиных диагнозов хватило бы с лихвой, чтоб переправить на тот свет человек пятнадцать – слово р а к эскулапы не произнесли. Кличка смерти оказалась удобно табуированной.
А Раймонда задыхалась.
В дождливый и темный осенний день мы отправились с Арнольдом Ароновичем валяться в ногах у врачей больницы имени Нахимсона. Перед выходом инвалид промыл стеклянный глаз, провел рукавом по облезлой кепке и натянул белеющее в швах пальто. Мы плелись сквозь заваленные мусором дворы, сквозь переулки, залитые холодным плачем, мы не видели разницы между светом и тьмой. Непонятно что лилось сверху. Циклоп тупо постукивал палочкой и тяжко дышал. Кроме глаза и пальцев, отнятых еще в финскую, у него, уже на гражданке, откромсали часть печени, желудка, а селезенку убрали полностью; вместо правой ноги он довольствовался протезом, теперь стоял ампутационный вопрос о левой. Удовлетворяя свое пытливое (от слова «пытка»?) детское любопытство, Творец забавлялся им, как хотел: то крылышко оторвет, то щупальце, то усик, то еще сяжки надломит, – а тот знай себе ползает. Но, может, Создатель научный (благородный то есть) эксперимент ставил: сколько кусков мяса можно обкорнать в человечьем теле, чтобы это оставалось еще совместимым с жизнью?
В кабинет, где сидела комиссия по госпитализации, мы прошмыгнули так, чтобы показать, что хотим занимать как можно меньший объем. Я намерилась расположить к себе собрание своей компетентностью вкупе со смиренностью самой нижай– шей. Я вкрадчиво лепетала: понимаю, для всех мест не хватает. Это так естественно! (Нас много, а всего остального мало.) Я понимаю, что пациент– ка безнадежна и моя просьба неприлична. Я понимаю, что негуманно просить врачей тратить на нее время и средства, когда они (врачи, время, средства) нужны людям, имеющим реальные шансы к полноценному возвращению в трудовой строй. (Меня не перебивали.) И все-таки... Хоть немножко облегчить предсмертные страдания... И, проглотив иголку Адмиралтейства: в качестве громадного исключения...
Мне был задан только один вопрос:
– Вы что – хотите, чтобы мы ее здесь вскрывали?
И уже в спину брошено:
– Она просто задохнется, вот и все.
На улице было мертво.
...Раствори меня этой осенней водой. Прими в землю, отпусти душу. Отпусти в землю, раствори душу, прими боль. Прими душу, раствори в земле, отпусти боль. Сделай же хоть что-нибудь!..
Я боялась, что циклоп рухнет. Я пыталась было взять ему такси. Но он сказал:
– Я еще в молочный зайду. Здесь всегда сметана и творог свежие.
Приползла домой.
Лежала, лежала.
Я не знала, чем защитить себя от смерти.
Мысленно принялась за письмо:
«Любимый, я всю мою жизнь, оказывается, сначала – летела к тебе, потом приземлилась и бежала к тебе, потом устала и шла к тебе, потом обессилела и ползла к тебе, а теперь, на последнем вдохе, – тянусь к тебе лишь кончиками пальцев. Но где мне взять силы – преодолеть эту последнюю четверть дюйма?..»
Получалось красиво. Но, проливая самые чистые слезы, я отлично знала, что месяца через два-три потребую свои письма назад.
Не было защиты от смерти.
Звонок пробил меня гальваноразрядом. Звонил телефон.
– Ну? И чего же тебе там сказали? – передразнивая кого-то очень похожего на себя, с любопытством прохрипела Монечка.
Вмиг я стала ужом на сковороде: «Тебе надо освободиться от избытка гормонов... Тебе надо заняться частичным восстановлением... главное, регулярно...»
– Так ты зайдешь к нам завтра? – перебила Монечка. – Заходи, ладно? – И прогнусавила медленно, как разборчивая примадонна: – Знаешь, чего я тебя попрошу? – Было похоже, будто она канючит «вкусненькое» или зовет в уборняшку. – Знаешь? Угадай! – Зашлась в долгом кашле. – Эн-ци-кло-педию! – проговорила она с комичной важностью. – Хочу про свою болесть все узнать. И картинки погляжу.
А у меня поутру отнялись ноги. То есть они оставались в порядке, и все остальное было как бы в порядке, но идти на работу я не могла. Исчезли силы встать. Руки были не в состоянии поправить одеяло.
Потом я кое-как села. Скрючившись, просидела на краю постели долго-долго, в самой неудобной позе. Тело будто застыло. Словно бы смертно окоченело. Полная каталепсия.
Врач не хотел давать больничный. Он вообще не понимал: рак у родственницы, а ходить не могу я. Какая связь? Потом, брезгливо взглянув, дал.
Я пролежала несколько дней.
...Я видела квартиру Гертруды Борисовны на Садовой – и там себя у стены коридора. В противоположной стене одинаковые двери обеих комнат были открыты. В каждой из них, слева от двери, было по одинаковому телевизору. В одинаковых экранах синхронно проплывали одинаковые изображения. Перед каждым экраном, спиной ко мне, сидело по человеку. Левый телевизор смотрела Монечка. Правый, за перегородкой, ее отец. Они повторяли друг друга, каждый в своей комнате. А на кухне, замыкая треугольник, сидела Гертруда Борисовна. Был поздний вечер – один на всех.
К счастью, не все в этой жизни такие, как я, слабаки и задохлики: базовая жена Корнелия вступила в решающую схватку с очередной соперницей. Она присмотрелась как следует к своим картам, три раза взвесила, семь раз отмерила – и, вызмеив губки, грохнула по столу козырным тузом.
При ближайшем рассмотрении им оказался широкоплечий полковник. Да не тот, а другой! Россия богата полковниками, пушниной и лесом. Капиллярные связи базовой жены густой сетью проросли во все сферы. Сейчас нужен был полковник. Она достала. Вот этот-то новый полковник и согласился резать Раймонду.
И все стало на свои места: Раймонда попала в Военно-медицинскую академию, Гертруда Борисовна освободилась от покойника, а базовая жена на время заполучила Корнелия – чинить ему амуницию и снаряжение для дальнейшей инсеминационной экспансии.
Она же, став главным режиссером действа, взяла себе также функцию полевой почты, осуществляя связь между полковником и немобильной родительницей Раймонды. Полковник в своей депеше с прямотой солдата уведомлял Гертруду Борисовну, что ее дочь не выдержит даже наркоза, о чем родительница подписала на своей кухне бумажку, добавив устно и совершенно неожиданно: «А если Бог захочет – так выдержит».
...Раймонда хвасталась, что ее укладывают в ба-ро-ка-ме-ру. Там насыщают кислородом. Туда помещают далеко не всех! Сознавая свое избранничество, Раймонда хихикала и кривлялась. Я спросила: как там лежится, в этой барокамере? Она сказала, что так-то, конечно, ничего, а скучновато. Голос у нее от барокамеры стал чуть потверже. Она прохрипела мечтательно:
– Вот если б одного из этих подложили!.. – И кивнула на чернокожих курсантов в иноземной форме.
Я приносила ей эпистолы от капитана и садовода. Почерк у них был, конечно, не очень, – разбирали всей палатой.
Но потом Раймонда пригорюнилась. Вспоминала Федю. Потом вспомнила Глеба и стала серой. Потом сказала:
– Зачем только мы с Рыбным разошлись? Сама не знаю. Сейчас бы лучше него никого и не надо. А выписалась бы отсюда – так и состарились бы вместе. Чего еще?..
Для меня это был показатель того, что она сдала окончательно.
Вторая жена Коли Рыбного, дама, напрочь лишенная иллюзий, аккуратная, цепкая и очень прижимистая, заявила, что в больницу к Раймонде Коленька пойдет только через ее, второй жены, труп. Но Коля, к чести его, понял, кто из жен ближе к этому состоянию. На свидании с Раймондой он был очень ласков, то есть настолько, чтоб это не походило на последнюю ласку у смертного одра, и даже почти скрыл подавленность. Он подарил ей шкатулочку собственного изготовления. Шкатулочка была очень красивая, инкрустированная.