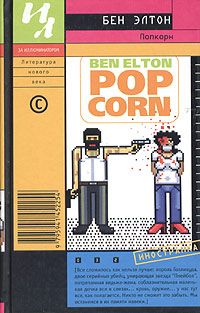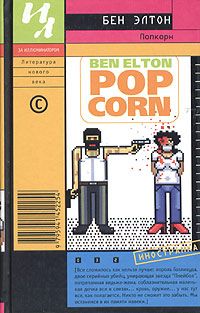Возможно, свою роль сыграли мальчишкины деньги. Или его подружка. Как бы то ни было, Вольфганг позволил отвести себя к столику, где Куртова «шобла» приветствовала его восторженными аплодисментами.
— Это Ганс, — представил Курт юного здоровяка с усиками а-ля Дуглас Фэрбенкс,[22] скорее всего подкрашенными тушью для ресниц. — В прошлом году завалил выпускной экзамен по латыни и теперь торгует автомобилями.
— Любыми, от малолитражки до «роллс-ройса», — похвастал уже крепко окосевший Ганс. — Хочешь, тебе устрою. Держи визитку. Такому музыканту скидка.
Вольфганг отшутился — мол, ему вполне хватает велосипеда, — но визитку взял, подметив, что у парня зрачки с булавочное острие. К плечу Ганса привалилась девица в полной отключке.
— Это Дорф. — Не обращая внимания на бесчувственную девушку, Курт представил ее соседа — серьезного парня в роговых очках. — Занимается валютой, отец же прочит его в юристы.
— Хочет, чтобы к двадцати одному году я стал клерком-стажером, — чопорно сказал Дорф. — Даже смешно, поскольку без меня старик голодал бы. Мать, конечно, ничего ему не говорит.
Курт с Гансом рассмеялись, обеспамятевшая девица начала сползать под стол. Ганс ее придержал.
— А вот Гельмут. — Курт показал на красавца-блондина с небесно-голубыми глазами и кобальтовыми серьгами им в тон. — Он так называемый…
— Педрила-сводник, — вставила Катарина.
— Вообще-то я хотел сказать «консультант по социальным вопросам».
— Мне больше нравится «педрила-сводник», — игриво сказал Гельмут, чем вызвал очередной взрыв смеха, а Гансова девица вновь двинулась под стол.
— Ну вот, ты познакомился с моими друзьями, мистер Трубач. Все они твои горячие поклонники.
Вновь грянули аплодисменты.
— Ты про себя не сказал, Курт, — напомнил Вольфганг. — Чем сам-то балуешься?
— Говорю же, помимо всего прочего я владелец клуба.
— Ага. Какого клуба?
— Еще не решил. Может, этого, может, еще какого. А может, всех разом, посмотрим.
— Значит, пока они не твои?
— Детали. Заполучу все, если понадобится.
— Как же ты их заполучишь, Курт? — Вольфганг хотел как-нибудь ловко осадить наглеца, но досадливо понимал, что тот вряд ли заметит насмешку.
— Сымпровизирую, как еще! Точно клевый джазист… А ведь и правда! Я — джазовый экономист. — Курту явно понравился собственный образ. — Ты используешь ноты, а я — банкноты! Классно, а?
— Откуда же они берутся?
— Как и у тебя — из воздуха! Беру сколько надо под залог покупки, а через неделю возвращаю ссуду, в тысячу раз обесценившуюся. Всякий может.
— Почему же всякий не делает?
— А ты — почему?
Спору нет, Курт прав. Вольфганг мог бы. Покупать что захочет. Все что угодно. Нужна только смелость. Обыкновенная наглость. Даже особой смелости не требовалось, ибо деньги обесценивались так быстро, что любой долг превращался в фикцию.
Всякий так мог.
Но делали такие как Курт.
Да еще, конечно, крупные воротилы. Промышленники, которые точно так же использовали ситуацию, но эти покупали целые отрасли, а Курт — лишь шампанское и дурь.
Все прочие ломали голову, где раздобыть пропитание на завтра.
Тут Вольфганг вспомнил, что пора домой — отпустить Фриду на рынок. Жалованье у него в кармане обесценивалось с той же скоростью, что и Куртовы долги. Он нищал, пока тут валандался, а Курт богател.
— Ну вот что. — Вольфганг осушил и поставил стакан на стол. — Покупай клуб и делай мне предложение. Если сочту его заманчивым, пойду к тебе управляющим. Пока же топаю домой, а то и впрямь засиделся.
Рука Катарины уже в который раз задела его ладонь. Никаких сомнений, хозяйка ее об этом знала. Не бывает столь многократных случайностей.
Факт будоражил.
Значит, тем более пора домой.
Вольфганга всегда окружали поклонницы, девушки постоянно строили ему глазки. Малышки души не чаяли в джазменах, а тут этакий симпатяга, да еще трубач.
Как правило, он проявлял стойкость и был неуязвим для кокетливых взглядов разгоряченных танцами дев. С эстрады Вольфганг охотно разглядывал вертлявые попки и груди, колыхавшиеся под платьем-одно-название, но желания их полапать не возникало. А вот с Катариной иначе. Она ему взаправду глянулась, что таило в себе опасность, ибо и он, похоже, глянулся ей.
— Завтра вечером я здесь играю, вот и поговорим, — буднично сказал Вольфганг.
— Завтра я уже стану твоим боссом, — ответил Курт. — Переговорим, не сомневайся.
Компания одобрила такое нахальство гиканьем и грохотом кулаков по столу, в результате чего бесчувственная девица съехала-таки под стол.
Вольфганг пожал Курту руку и небрежно кивнул Катарине. Та тоже ответила легким кивком, лицо ее оставалось замкнутым и бесстрастным.
Но потом, словно повинуясь порыву, она вдруг подалась вперед и поцеловала Вольфганга в губы. На секунду он почувствовал жирную вязкость ее помады и уловил аромат духов. Затем Катарина столь же резко отпрянула, и лицо ее вновь превратилось в маску.
— Видали! — воскликнул Курт. — Говорил же, заигрывает. Ты удостоен чести, меня на прощанье она не целует.
— Ты же не трубач. — Катарина впервые искренне улыбнулась.
— Ну ладно, я пошел. — Вольфганг старался сохранить самообладание. — Жена, дети, знаете ли.
Последнее адресовалось Катарине. Обычно о своем семейном положении он не распространялся. Слишком приземленно. Не шибко джазово.
Потому-то сейчас и сказал. Катарина его разбередила, и надо было сразу ее уведомить, ибо по опыту он знал: ничто так не остужает распаленное либидо джазовой поклонницы, как упоминание о жене и детях.
— Передай поклон фрау Трубач, — сказал Курт.
— Непременно.
Надо было сваливать.
Смешные деньги
Берлин, 1923 г.
Главное — не медлить. В течение дня цена кило моркови могла подскочить в пятьдесят тысяч раз, и молодой паре, обремененной детьми, хватало благоразумия не откладывать покупки на после обеда.
Вольфгангу повезло, что работа его заканчивалась всего за час-другой до открытия рынков. Управляющий выдавал жалованье кучей банкнот, иногда еще сырых, только-только из-под печатных станков Рейхсбанка, которые — все двенадцать — работали круглосуточно. Вольфганг хватал деньги, черным ходом выскакивал из клуба и, пристроив трубу и скрипку на велосипедный багажник, что есть мочи крутил педали, опасаясь, как бы инфляция не сожрала весь заработок, прежде чем он поспеет его истратить.
В феврале он получал двести-триста тысяч марок пяти- и десятитысячными купюрами, которые рассовывал по карманам. Летом он уже забрасывал инструменты за спину, а к багажнику приторачивал раздувшийся от денег чемодан.
Нынче из-за выпивки с Куртом и Катариной он припозднился и потому налегал на педали древнего односкоростного драндулета. Чтобы не откусить язык в берлинских проулках, еще в прошлом веке вымощенных булыжником и неровным плитняком, Вольфганг крепко сжимал клацавшие зубы.
В колодце двора он цепью пристегнул велосипед к баку общественной помойки, через парадный ход вбежал в вестибюль и вызвал лифт. Всякий раз, как Вольфганг хотел им воспользоваться, лифт почему-то оказывался в другом конце шахты, верхнем или нижнем. Обычно Вольфганг матерился под нос, проклиная закон подлости, но сегодня это было на руку. Прислушиваясь к натужному лязгу спускавшейся кабины, он припомнил давешнее знакомство и особенно прощальный поцелуй Катарины.
Вспомнил ее руку, обхватившую его загривок. Томный взгляд сквозь табачный дым. На мгновение ожившие губы.
И тут вспомнил про помаду. Густую, блестящую, пурпурную.
Уж он-то знал, что любая женщина с пятидесяти шагов и сквозь закрытую дверь узрит чужую косметику. Вольфганг выхватил из кармана платок и крепко отер рот. Потом глянул на льняной квадратик и понял, что вовремя спохватился, — на ткани остались темно-пурпурные разводы. Конечно, он ни в чем не виноват, он не напрашивался на поцелуй. Но когда речь о следах чужой помады, безвинность — не аргумент.
Фрида, уже в пальто и шляпке, ждала его за дверью; возле ног ее стояла приготовленная сумка, на руках восседал Отто.
— Ты задержался, — громким шепотом сказала Фрида, кивнув на дверь детской — мол, второе дитятко еще спит.
— Извини. Деловой разговор. Малый предлагает работу. Возможно, заинтересуюсь.
— Держи Отто, уже час как проснулся. — Фрида всучила карапуза мужу и взяла сумку. — Наверное, увидел страшный сон. Все, я побежала. До больничного приема еще увижусь с родителями. Нынче папин день.
Фридин отец-полицейский получал ежемесячное жалованье, что совсем недавно было знаком успешности и стабильности. Сие достижение среднего класса означало, что если кого-то собирались турнуть с работы, об этом извещали за месяц, дабы смягчить удар. Но в Германии 1923 года ежемесячное жалованье обернулось проклятьем. Все необходимое нужно было покупать на месяц вперед и делать это в первый же час после получения денег, ибо уже на следующий день новый курс доллара превращал их в гроши, которых не хватит и на гороховый стручок.