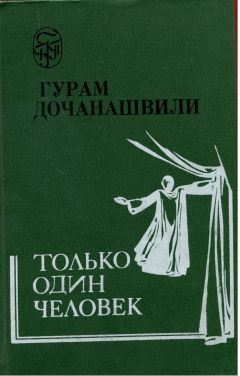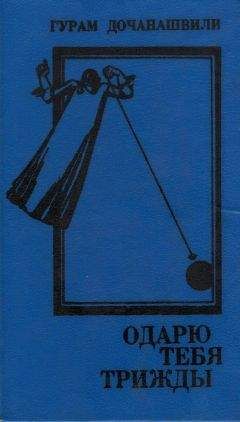— А что там, дальше...
— Где дальше?
— За холмом, Скирон.
— Ничего!
— Но... я слышу какой-то шум.
По ту сторону протекала запретная к упоминанию река, в которой обитал коварный речной бог, упрямец Энипевс; текла себе и текла — что могло ее исчерпать — ни разу не сбившись, слепая, с однажды избранного пути, только что время от времени она то уменьшалась, то увеличивалась, прибавляя еще немного сил своему великому брату Посейдону.
Хорошо хоть к морю Тиро больше не тянулась — стоило ей, бывало, подойти к берегу, как к ней тотчас же подплывала исполинская черепаха. Скирон же плавал в свое удовольствие, будь то в бушующем или в откинувшем пену море, но черепаха всегда держалась от него в отдалении — может, знала, что со временем он станет ее кормильцем.
А Тиро, эта резвушка своевольная, все-таки время от времени, как-то по-плохому вдруг загрустив, просила:
— Выкупаюсь, а?
За такие слова Скирон как-то в один проклятый день даже хлестнул ее по прекрасному лицу венком; и она долго глотала слезы, такая красивая... У этой по-ребячески шаловливой женщины, почти ребенка, были царственно строгие черты лица дивной королевы. Сейчас она плакала... Скирон не мог смотреть на нее, так горько, со всхлипом, проливающую слезы, у него от жалости разрывалось сердце. Он отошел подальше и, рухнув ничком, долго бился лицом о щебенистую землю. А потом, как это ни странно, не ко времени уснул...
...Еще не пробудившись, он вдруг вскочил, сквозь сон, на ноги —над ним тревожно метался, предвещая беду, вещий журавль.
Потрясенный ужасом, Скирон пустился бегом сперва по щебенистой земле, потом по пестроцветному полю, и лихорадочный перестук его шагов издалека долетал до пустой пещеры. Наконец он ввалился туда, но там никого не оказалось. Он сразу же глянул в сторону моря — но и там ни живой души, ни единого человека, только по-сиротски одиноко плавала голодная черепаха. И лишь после всего, под конец, под самый конец, он с трудом решился посмотреть именно туда, где безумно боялся увидеть нечто, так страшно его всполошившее, — и в самом деле, на вершине холма стояла птица-вестник — журавль.
Снова ворвавшись в пещеру, Скирон подхватил два самых острых меча, но на холм он не взбежал, — может, надеясь отдалить беду, — а поднялся медленно, едва переступая нетвердыми шагами. Его била дрожь.
...В тот проклятый день он, одновременно с затаившим дыхание журавлем, увидел возлежащую на лоне коварного Энипевса Тиро.
Широкая, мелководная река, бравшая начало на Олимпе, медленно текла, перекатывая низкие волны. Днями и ночами, будь то в пору Нюкты или Гелиоса, шла она себе и шла — что могло ее исчерпать, — текла и текла, но сейчас она как будто бы силилась приостановиться, так как на лоне ее возлежала навзничь лилейная Тиро.
Обтекая ее темя и лоб, Энипевс, как бывало раньше Скирон, больше целовал ее в нижнюю, чем в верхнюю губу, потом быстро стекал с не прельщавшего его подбородка и разливался по точеной шее; затем с дрожью откидывал упавшие на грудь длинные, изобильные волосы и ласкал, ласкал с влажным шорохом прохладно-упругие местечки, надолго возложив на ее плавно очерченный живот свою мягкую ладонь, а там стекал постепенно по стройным ногам; вечный, он все тек и тек, снова и снова лаская Тиро своими чувствительными пальцами слепца, и Тиро, постанывая, сама проводила, словно жаждая милосердия, речной рукой по своей груди, клала ее на живот; но алчному Энипевсу было мало отдавшейся течению Тиро, ибо это не давало ему полностью в нее проникнуть, и он не переставал ее с мольбами ласкать и ласкать. Но вот она, разомлевшая, испустила совсем тихий, — чтоб никто не услышал, — но весьма красноречивый стон, подчинившись чужой непререкаемой воле.
Потрясенный Скирон видел, как она, с искаженным мукой лицом, медленно поворачивалась к Олимпу, к главному истоку Энипевса, как, обласканная, подалась всем телом навстречу течению, и река сначала припала к ее стопам, а потом, вероломная, медленно, осторожно потянулась к ослабевшим коленям; но где же была та женщина-ребенок! По-бабьи застонала Тиро... Тут несчастный Скирон так ужасающе взревел, что, застигнутая врасплох, она ползком заспешила к берегу, а потерявший голову Скирон, лавиной сорвавшись в реку, стал неистово бить, колотить Энипевса обоими острыми мечами; потом, отбросив мечи, он попытался придушить его собственными руками, но куда там — ведь текущий Энипевс был бесплотен и бескровен, он состоял из одной лишь воды, а поди-ка придуши воду? — она все так же текла и текла, выскальзывая из рук — вот она есть, и вот ее нет. И не познавший отмщения, всего лишь человек, Скирон, беспомощно уронив голову, там же, в реке, горько разрыдался. И мелкими-малюсенькими трещинками потекли к жесткосердому Посейдону обильные и горячие, неисчислимые, — но всего-то на одну горстку, — слезы. А что это для Посейдона.
Прогнал Скирон Тиро.
Тосковал, оплакивал... А кругом на земле было столько горя, измен, вероломства, извращений, только вот любви, любви не было, нет!
9
Вседобрейшая госпожа, великая синьора Анна, Маньяни.
Доброта — вот Ваше начало начал, не будь ее, может быть, тот грузин и не полюбил Вас так... Ваша доброта, опять-таки подобно Вам самой, безудержна и необузданна... Она на каждом шагу... вот хотя бы: однажды Вы, нет, не гонимая в ту пору нуждой, когда добрым поступком чают — заслужить от судьбы возмещения наградой, а в то время, когда Вы жили в бывшем дворце графа Альтиери... Неподалеку от Вас жил тогда некий старик. Соседи ненавидели его, и он отвечал им тем же. Его даже считали свихнувшимся, потому что он любил полное одиночество и животных. Он держал шесть кошек, одна из которых была одноглазой. Но если для других он был всего лишь развалиной, то для Вас — просто старым человеком, и Вы не жалели его, а любили — ведь ему оставалось так немного. Однажды старик тяжело захворал каким-то инфекционным заболеванием — ведь все хорошо меня поняли? — инфекционным, и вот как только великая синьора узнала об этом, она сразу же поспешила к нему: «Послушайте, — сказала она, — почему вы не хотите лечь в больницу? Там будут за вами ухаживать. О кошках я позабочусь». «Убирайтесь!.. — буркнул старик. — Не хочу я в больницу, они все ненавидят меня. Если я уеду, они займут мою комнату. Убирайтесь...» Тяжелый был старикан... Как только он посмел эдак с ней! А она — и кто же — вулканическая Анна, Маньяни, — пропустив оскорбления мимо ушей, тотчас же отправилась к владелице дома и внесла за старика плату — а ну-ка отгадайте сколько, — она заплатила за целых десять лет вперед, после чего снова вернулась к старику и, положив перед ним подписанное письменное соглашение, сказала: «Теперь вы можете спокойно лечь в больницу. Никто вашу комнату сдать не посмеет». Старик хоть и смягчился, но на Маньяни так глаз и не поднял, а только спросил удобно устроившуюся у него на коленях мурлычащую одноглазую кошку: «Тотонно, как ты думаешь, ложиться мне в больницу или нет? Ты останешься одна, бедняжка Тотонно, кто же присмотрит за тобой!»
«Я позабочусь о ней», — сказала Анна, Маньяни. «Тотонно, — так и не поднял головы старик, — тогда я поручаю тебе твоих братьев. Веди себя прилично. Я скоро вернусь». И ни одного слова ей, Маньяни. Положив старика в больницу, она наняла рабочих, которые перестелили во многих местах покоробившийся паркетный пол, покрасили стены, установили отопление; купила старику новую постель, поставила умывальник. И целых шесть месяцев усердно заботилась о чужих кошках. И это кто же? — высоко вознесенная в ту пору Анна, Маньяни — да еще целых шесть месяцев — полгода, сто восемьдесят дней! Причем, о Тотонно она заботилась особенно. И только когда она доставила старика из больницы и уже поднималась с ним по лестнице, он впервые с ней заговорил: «Ну как вела себя моя Тотонно? Скучала по мне?» Взволнованная Маньяни открыла дверь прехорошенькой комнаты, и ее наполненное теплыми чувствами сердце забилось сильнее в предвкушении удивления и радости старика. «Ну, как вы находите теперь свою обитель? Правда, хорошо?» Но старик, — надо же ей было нарваться на такого, — небрежно присев на новую постель, сказал: «Раньше было лучше, синьора. Тобыла моя комната». Надо же было, чтоб попался эдакий упрямец! Но и сама Анна, Маньяни, тоже была штучкой дай боже, и вот, подумав немного, она сказала такое: «Невозможно переделать чью-то жизнь, невозможно помочь другим жить по-новому, и никто в твоей жизни тоже помочь тебе не может. Нужна выдержка, и не надо стремиться что-то менять... Не надо...» Так подумалось ей поначалу, но чуть позже она придирчиво добавила: «И все-таки, если бы я только могла, сколько бы чего я переделала! Мои ноги, мой нос...» И с чего только Вы так прицепились к своим несчастным ногам! И это при Вашей-то, как ни у кого, вольной и горделивой поступи. А что до носа, то тут Вам могла бы позавидовать любая орлица. Да не примите это в обиду, великая и красивая госпожа! Хотя совсем не по Вас было затаивать обиду, этой переходной ступени к гневу Вы, всегда бурно выплескивавшая свое негодование прямо в лицо, вовсе не знали. Единственные Ваши обиды были связаны с собственными ногами и носом. Ну а про хорошее, почему Вы про хорошее в себе умалчивали? Почему, к слову, Вы никогда не говорили о своих волосах и глазах, разве только однажды как-то вскользь обронили: «Волосы у меня хорошие, это, что правда, то правда»... — не волосы, а какой-то черно-сверкающий вихрь, — на все же остальное, что Вам было даровано, Вы только недовольно хмурились. Но хоть помалкивали бы, нет, какой там! Однажды, когда Вам преподнесли лошадь, Вы, оказывается, разглядев ее внимательно, во всеуслышание объявили: «Хороша, только круп такой же широкий, как у меня». И чего Вы так привязались, к тому же несправедливо, к своей внешности, нарочито глупящая и милостью божьей гениальная, до корней волос женщина, красивейшая, но главное — добрейшая, госпожа Анна, Маньяни.