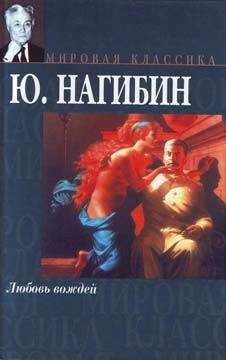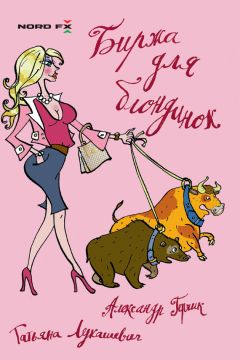— О сауне пока забудь, — услышал Первый хрипло просевший голос. — Завтра выйдем пораньше. Зайчишку надо наказать.
Давно это было, лет пятнадцать назад или около того, когда нас с женой пригласили на встречу с Чангом. Пригласили соседи по дачному поселку — Дружниковы. Сам Дружников — известный писатель, кинодраматург, его супруга — хранительница домашнего очага, а Чанг — лев, снимавшийся в фильмах Дружникова, к вящей славе для них обоих, а также хозяев Чанга — семьи Бедуиновых. Чанг, ручной, очеловечившийся лев, никогда не видевший пустыни, был равнодушен к славе, но наверняка радовался за своих хозяев, которых любил не меньше, чем Маугли — вырастившую его волчью стаю, и так же считал, что он с ними одной крови. Поэтому лев, еще молодой, но слабый здоровьем, малоподвижный и легко утомляющийся, покорно трясся в самодельном фургоне на съемки и безропотно отрабатывал бесконечные дубли. Не уверенный ни в себе, ни в операторе, ни в аппаратуре, ни в качестве пленки, режиссер заставлял Чанга страховки ради десять раз совершать один и тот же прыжок. Режиссер был мало сведущ в львиных повадках и считал прыжок наиболее характерной особенностью льва, выражением его сути, как, скажем, у кузнечика, лягушки или антилопы-импалы, и бедному Чангу приходилось без конца прыгать: на стол, на стул, на комод, на шкаф, на крышу автомобиля, в окно, из окна, через ограду, ручей, канаву, овраг. Он приседал, напрягая мышцы задних ног, отчего в крестец впивалось шило, отталкивался и приземлялся на больные, чуть искривленные от рождения передние лапы. Чанг родился рахитиком, дохляком, за что был обречен на уничтожение собственной матерью, стыдившейся и презиравшей этого недоделка, невесть с чего затесавшегося в великолепную шестерку ее первенцев. Новая — человеческая — мать Чанга буквально вырвала его из когтей отторгшей убогого сына львицы. Эта женщина — в медовом мурлыканье маленького Чанга, когда она ласкала его, звучало: «Урча, урча», и постепенно все стали так звать ее — не представляла, какую чудовищную обузу взяла на себя. Вырастить льва в домашних условиях дело вообще не простое. Особенно когда домашние условия заключаются почти в полном отсутствии их: одна комната в деревянном домишке барачного типа, а в ней семья из четырех человек, не считая собаки. И жить предстояло на одну зарплату скромного служащего. Урча — будем и мы её так называть — вынуждена была уйти с работы, чтобы целиком посвятить себя львенку. Тяготы усугублялись тем, что львенок был больным и слабеньким, он требовал повышенного внимания (впрочем, кто знает, сколько внимания требует здоровый львенок, выращиваемый в коммунальной квартире на условиях, так сказать, семейного подряда?), неусыпной пристальной заботы, лечения, включая массаж и гимнастику для лап. Льва надо было чистить, обрабатывать ему когти, расчесывать гриву (это уже позже, когда подрастет), поить и кормить по четкому распорядку. Но не стоит все это расписывать: уверен, ни один из моих читателей не возьмет льва на воспитание, особенно если дочитает до конца эту печальную историю, так что не стоит корчить из себя старого львовода.
Трудности усугублялись соседями по дому, сразу возненавидевшими Чанга. Они пытались избавиться от него, подбрасывая ему булочку с бритвенным лезвием в мякише, крысиный яд, и бумажными голубями летели во все инстанции доносы на хозяев Чанга, испортивших им жизнь. Конечно, Чанг никому не мешал и никто его не боялся, просто людей томила тревога, вдруг диковинное предприятие Бедуиновых даст навар.
И все же, худо ли, хорошо ли, семья справлялась с трудностями и, подчинив свою жизнь странному, песочного цвета, таинственному существу, стремительно растущему и как бы вытесняющему их из жизненного пространства, уверенно продвигалась к поставленной невесть кем и когда цели: вырастить посреди советской страны усилиями рядовой, ничем не примечательной семьи самого большого и грозного из всех африканских хищников. Зачем им это было нужно? А разве мы всегда знаем, почему выбираем те или иные пути? Конечно, в иных, не столь уж частых случаях, когда выбор происходит сознательно, продуманно, мы это знаем, но ведь куда чаще выбираем не мы, а дороги выбирают нас, и темны истоки человеческого предначертания к тому, что оказывается судьбой.
Возможно, указание пришло из бесконечной дали лет: какой-нибудь заблудившийся ген добрался до Урчи через поколения от того христианского мученика, которого пощадил лев на арене Колизея (эту легенду использовал Бернард Шоу в пьесе «Андрокл и лев»), и превратил ее в опекуншу львов. Тогда наследственностью объясняется, почему четырехлетний Урчонок — сын Урчи — и семилетняя Урчона — ее дочь — тоже оказались прирожденными укротителями. Они сразу установили с большим и опасным — сперва когтями, а там и пастью, быстро набравшей острых клыков в мягкую молочную пустоту, — желтым котенком отношения покровительственной, но строговатой дружбы, и царь зверей принял такой порядок вещей, хотя жалки и бессильны были перед ним дети человеческие.
Куда труднее объяснить, почему маленькая грязно-белая курчавая болонка Рип с огромными коричневыми подглазьями и закушенным розовым язычком тоже оказалась специалисткой по львам. Рип воспринял появление в доме огромного — для него — крошки-новосела как нечто само собой разумеющееся, хотя и обязывающее, и сразу стал на него полаивать и порыкивать, но не от злобы, а помогая освоиться в новой среде. Малыш Рип сделал больше всех Урчей, вместе взятых, для адаптации львенка, и тот оплатил эту заботу преданностью и любовью. Впрочем, трудно сказать, кто в этой паре любил сильнее: Чанг, вырастая, становился все сдержаннее в проявлении чувств, даже к Рипу, а Рип, простая душа, любил в открытую, не таясь и не стесняясь. Казалось, любовь Рипа возрастает пропорционально росту Чанга. Малыш становился все требовательнее и нетерпимее к объекту своей любви: то и дело обтявкивал его, даже покусывал за ноги, разумеется, для пользы Чанга, которую он один лишь знал, никого к нему не подпускал, особенно если тот спал или подремывал. И лев ничуть не сердился на эту мелочную, докучную опеку, он охотно подчинялся Рипу, позволяя делать с собой что угодно. Рип расхаживал по нему, зарывался в гриву, спал у него под лапой — одно неосторожное движение — и от собачонки осталось бы мокрое место, но такое движение было невозможно. Лишь однажды, в начале дружбы, Чанг проявил неосмотрительность в отношении Рипа. Он принялся вылизывать его своим шершавым, как наждак, языком и слизал всю шерстку на спине. А разнежившийся Рип даже не заметил, что облысел. Пристыженный Урчами, Чанг понял, что нанес ущерб другу, и с тех пор стал тщательно соизмерять свою мощь с уязвимостью слабого существа. Он помог Рипу восстановить шерсть, нежно слюнявя ему спинку языком.
Чанг, никогда не видевший пустыни и не слышавший рассказов матери, знал откуда-то, что такое пустыня, и, повзрослев, постоянно грезил о ней. Он видел ее такой, какой она и была на самом деле: желтые, в цвет его шкуры, пески, когда недвижные, когда шевелящиеся, пересыпающиеся в себе самих, редкие колючки, бездонное, почти бесцветное небо. Видел он и свою послеполуденную гордую тень на песке. Ему хотелось туда, хотя он и не мог взять с собой тех, кого любил, за исключением Рипа. Тот вписывался в пустыню не то крошечным шакаленком, не то крупной ящерицей, мгновенно исчезающей в песке.
Мы забыли еще об одном члене семьи, приютившей Чанга, а ведь это он зарабатывал всем на прокорм — об Урче. Он спокойно, хотя и с симпатией относился к льву. Урч принадлежал к какой-то странной, редкой кавказской народности, почти вымершей, и привечал лишь тех, с кем можно составить застолье, часами пить сухое грузинское вино. Чанг в рот не брал вина и потому был ему без интереса. Но когда Урч замечал Чанга, в светло-карих шальных глазах его зажигался теплый огонек. Чанг платил Урчу благожелательным равнодушием, но не дал бы его в обиду, поскольку от Урча шел семейный запах.
На зарплату счетовода Бедуинов не смог бы прокормить собственного глиста, не то что семью из шести человек, один из которых лев. Но он чуть не каждый вечер, независимо от того, было ли застолье или нет, играл в нарды по-крупному и всегда выигрывал. Любопытно, что после застолья он играл еще лучше. И опытные игроки предупреждали новичков: сегодня с Бедуиновым не садитесь, он выпил шесть бутылок кахетинского.
Но те все равно садились — уж больно велик был соблазн обчистить шатающегося и орущего песни задавалу, и уходили с пустым карманом.
Чанг жил в своем очарованном печальном мире, где всегда недоставало чего-то самого главного; в младенчестве чувство недосягаемости было обращено к матери, из которой он пил молоко, бессильно толкаясь с братьями и сестрами — ему неизменно доставались почти опустошенные сосцы; на новом месте, когда он подрос и вкус мяса вытеснил память о материнском молоке, тоска недосягаемости обрела образ пустыни.