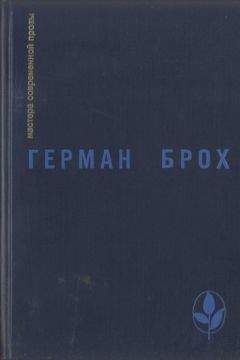— Войди в круг творенья, что некогда было и снова есть; имя тебе да будет Вергилий, час твой настал!
Вот что рек ангел, и страшен он был в своей нежности, утешителен в своей скорби, недоступен в своей тоске, вот что услышал он из уст ангела, и то был язык внутри простого земного языка, и, слыша это, позванный по имени и с именем соединенный, он еще раз взглянул на колыханье полей, простертых от берега к берегу, беспредельные волны хлебов, беспредельные волны вод, озаренные прохладными косыми лучами рассвета, прохладно сияющая близость, прохладно сияющая даль, — он взглянул на все это, и так сладко стало ему все познавать и ничего не познавать, все знать и ничего не знать, все ощущать и ничего не ощущать, то была сладость всезабвения, сон без грез.
ЗЕМЛЯ — ОЖИДАНИЕ
© Перевод А. Карельский
Пробуждался он с тоскливым чувством непоправимости: всего лишь ощущение, как и в тот миг, когда засыпал, но зато внезапное и острое, и, ощущая чье-то присутствие подле своей постели, он ощутил одновременно, что этим присутствием все бесповоротно расстраивалось; ощущение нахлынуло новой, второю волной, и с нею он переступил порог сознания, зная теперь, что надо ему было бы, лишь засветает, поспешить к берегу моря, чтобы уничтожить там «Энеиду», а он опоздал. И он попытался снова ускользнуть в спасительный сон, к своему ангелу, даже надеясь, возможно, что чужой неотрывный взгляд, который он продолжал ощущать на себе, вдруг окажется взглядом отлетевшего ангела. То было, конечно, заблуждение, ибо слишком отчетливо ощущал он эту вставшую рядом чуждость, и единственно чтобы спугнуть, прогнать ее, но и не без последнего проблеска надежды на присутствие ангела спросил он из глубин своего сна:
— Ты — Лисаний?
Ответ был невнятен, и голос незнаком.
Что-то вздохнуло в нем.
— Ты не Лисаний… Уходи.
— Господин… — Голос звучал робко, почти просительно.
— После… — Пускай не кончается ночь, он не хочет света.
— Господин, прибыли твои друзья… Они ждут…
Все бесполезно. И свет режет глаза. В груди засел кашель, вот-вот он вырвется наружу, и говорить опасно.
— Друзья?.. Кто?..
— Плотий Тукка и Луций Варий прибыли из Рима приветствовать тебя… Они хотели бы повидаться с тобой, прежде чем их позовут к Цезарю…
Свет резал глаза. Вторгаясь с южной стороны и наискось пронзая сводчатый эркер, резкие стрелы сентябрьского солнца наполняли его теплом, теплом и светом сентябрьского утра, и комната, хоть и недоступная этому потоку лучей, все же не осталась совсем ему непричастной, потрезвее от света, подурнев от тепла: пол, уложенный мрачно поблескивающими мозаичными плитами, был нечист, громоздкий канделябр с увядшими цветами и оплывшими свечами являл вид запустения. В дальнем углу стоял стульчак — нужда и соблазн. Все болит, всюду начинаются рези. Друзья пускай подождут.
— Мне надо сначала оправиться… Помоги мне.
С натугой перевалив ноги через край кровати, он сел, поникший, сгорбленный, превозмогая мучительные позывы на кашель, с новой силой стиснувшие грудь; вновь шевельнулась и вялая истома лихорадки — шевельнулась сначала в бессильно свисших ногах, поползла оттуда вверх, токами легкой дрожи пронизала все тело, чтобы постепенно завладеть и головой, и заволокнутый истомой взгляд, будто тщась обнаружить нечто важное, может быть даже самый исток лихорадки, с замедленно-пристальным, изнуренно-цепким вниманием приковался к ногам, к их голым пальцам, чьи механические полухватательные движения никак невозможно было остановить, — ах, неужели она начнется снова, самоуправная жизнь органов, членов, чувств? И хотя от раба не приходилось ожидать никаких объяснений столь интимного свойства, взгляд просительно потянулся к нему, потянулся почти непроизвольно, почти против воли, но и сразу же разочарованно поник, ибо на азиатском, с чуть сплюснутым носом, ни молодом ни старом лице прислужника, на этой непроницаемой маске не изобразилось ничего, что можно было бы истолковать как ответ, — одна лишь суровая покорность и покорствующая суровость, терпеливо, но и неприступно дожидающаяся приказаний, ждущая, когда же высокий гость их отдаст и решится встать наконец. Но, кажется, именно это и было совершенно невозможным, ибо повсюду, а не только в теле его, все ощутимей становилось несогласие и расстройство; расстройство царило в мирах, и, не устранивши его, как можно было пошевельнуть хоть одним членом? Кто хочет воспрянуть, кто хочет устремиться к берегу моря для свершения жертвы, тот да не вершит ее под знаками несогласия и раздора; неувечным должен быть жертвователь, неувечным жертвенный дар, дабы достоинством полноценности исполнилась жертва, а ведь ему невозможно даже установить, все ли свитки до единого находятся в сундуке и, стало быть, к уничтожению готова в самом деле вся поэма, или какой-нибудь свиток, чего доброго, исчез за эту ночь, — кто даст ответ? Конечно, ремни на сундуке затянуты накрепко, и по всем признакам никто его не открывал, — но сейчас-то он и сам разве дерзнет прикоснуться к жертвенному дару, дерзнет распустить ремни? Расстройство в теле и во всех членах, расстройство в мирах — возможно ль уповать на восстановление согласия? Он ждал, и вместе с ним ждал раб — оба без малейших признаков нетерпения. Но тут снаружи отнюдь не стеснительной рукой распахнули дверь, и в комнату без лишних церемоний, то ли наскучив ожиданием, то ли услыхав, что он уже проснулся, вошли Плотий Тукка и Луций Варий. Он втянул ноги обратно в постель.
Еще с порога Плотий, по своему обыкновению, наполнил всю комнату громовыми раскатами сердечности:
— Нам сказали, что ты лежишь тут больной, мы сломя голову несемся всю ночь напролет — и застаем тебя на том, что ты украдкой пытаешься улизнуть из постели! Но и поделом тебе, что попался, — уж нас-то не проведешь!.. Ну, так что там у тебя? Благодаренье богам, выглядишь ты молодцом; ты и десять лет назад так выглядел — тебя не так-то легко скрутить!.. Сейчас у нас, конечно, опять кашель, лихорадка — знаем, все знаем; спросился бы друзей — они бы не пустили тебя в это дурацкое путешествие! Мы узнали о нем лишь задним числом — от Горация; вот ему ты не побоялся сказать, знал, что уж он-то палок в колеса не поставит, благо только и думает, что о своих стихах! И чего, скажи на милость, ты не видал в Афинах? Вот и пришлось скрываться от людей — и твое счастье еще, что Цезарь тебя вовремя выудил и доставил обратно… Ну, Август — он мудр, как всегда, а ты что ж, ты норовист, как всегда… И теперь вот твоим друзьям придется потрудиться, чтобы снова поставить тебя на ноги!
Он рухнул в кресло, застонавшее под его грузным телом, и уселся в нем как гребец или кучер — согнув руки и сжав кулаки, — а его заплывшее жиром багровое лицо в родимых пятнах и с двойным подбородком продолжало излучать благодушную сердечность.
Луций же Варий, всегда избегавший садиться, дабы не помять безукоризненных складок элегантной тоги, возвышался, худощавый и чопорный, в своей обычной позе: одна рука подпирает бок, другая наставительно поднята вверх под прямым углом.
— Мы очень тревожились о тебе, Вергилий.
Несмотря на всю готовность к смерти, в нем вдруг пробудилась неистребимая опасливость больного.
— А что вам обо мне наговорили? — И, как бы упреждая ответ, новый приступ кашля, которого он ждал и боялся, сотряс его.
— Кашляй, кашляй, — успокаивающим тоном сказал Плотий и потер покрасневшие от бессонной ночи глаза. — С утра человеку надо прокашляться.
Луций успокоил его по-своему, по-деловому:
— Последние вести о тебе у нас ведь почти недельной давности. Август написал Меценату, что встретил тебя совсем больным и уговорил отправиться назад, а поскольку сенат заседает сегодня по случаю Цезарева дня рождения и Меценат не мог отлучиться, чтобы вас встретить, мы охотно вызвались быть его гонцами к Августу, чтобы по этому случаю заодно и тебя повидать… Вот и все.
Это звучало по-деловому, резонно, но Плотиево «Кашляй, кашляй» успокаивало надежней.
— Уфф! — продолжал Плотий. — Всю ночь тряслись. И глаз путем не сомкнешь при каждой смене лошадей тебя расталкивают. В одной нашей колонне было под сорок повозок — а сколько еще других! Со вчерашнего дня добавилось, по-моему, не меньше сотни.
Не приехал ли Плотий на телеге? У него добродушное топорное лицо старого крестьянина, и легко представить его себе невозможно не представить! — сидящим в телеге: мерно покачивается, клюет носом и храпит от души.
— Я слышал, как вы подъезжали…
— И вот мы здесь, — заключил Плотий и снова напомнил ему гребца.
— Много народу приехало… очень много…
— Во время приступа не говори, — прервал его Луций, занятый складками тоги, пострадавшими от ночной езды. — Тебе нельзя говорить. Ты же помнишь — врачи всегда тебе это запрещали!