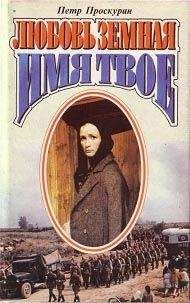Пока она говорила, глаза у нее были сухие, но едва Захар бережно обнял ее и прижался к ее щеке губами, плечи ее задрожали, и тогда он, подчиняясь какой-то невыносимой минуте, быстро, сильно и горячо поцеловал ее в мокрые от слез, солоноватые губы. Затем они некоторое время стояли рядом, и Захар поддерживал ее, полуобнимая за плечи, и смотрел куда-то поверх голов, но притихшие бабы тут же зашумели, к Захару подошла Стешка Бобок, молча обняла и поцеловала его, а там протиснулась и Варечка Черная, протянула руку.
— Дай хоть поглядеть на тебя, Тарасыч, — сказала она и посетовала: — Ах, горюшко ты наше, ты же совсем седой, Тарасыч… А я тебя все таким, как на войну уходил, помню…
Захар ничего не ответил ей, он увидел торопливо подходившего Фому Куделина, за ним Володьку Рыжего, они торопились к нему, постаревшие, с оживленными лицами.
— Захар, в самом деле Захар, — сказал, удивляясь, Фома Куделин, и они, помедлив мгновение, обнялись, затем Фома сердито заморгал на Варечку Черную, отвернулся в сторону и быстро провел тыльной стороной ладони по глазам. — Эк, черт, — крякнул он недовольно и опять увидел перед собой Варечку Черную. — Ну, чего уставилась? — сердито покраснел он. — Вам, бабам, этого не понять, у вас разное другое устройство. Природа! А! — махнул он рукой, опасаясь, что с языка в расстройстве чувств при ребятишках может сорваться что-либо непотребное. Захар обнялся и с Володькой Рыжим, которого без бороды не сразу узнал, а там и пошло. Подвернул на телеге проезжавший мимо в поле, в бригаду с какими-то запчастями, Иван Емельянов, спрыгнул, прихрамывая на своей деревяшке, долго тряс руку, подошел, скрывая любопытство, и нынешний густищинский председатель — Дмитрий Сергеевич Волков, а если запросто — Митька-партизан, поздоровался, отошел в сторонку; Захар плохо помнил его, до войны он был совсем зеленым, а теперь вошел в самую силу, выгоревшая добела пропыленная рубаха на широких плечах трещала. Подходили еще люди, многие по дороге на работу, с граблями и вилами, но затем все словно расступились, и Захар увидел своего крестного, идущего к нему медленно, с помощью толстой, суковатой палки; Игнат Кузьмич шел, глядя на него, и Захар окончательно растерялся, крякнул, двинулся навстречу, совершенно ничего не разбирая перед собой и смутно видя лишь одну приближающуюся, неясную фигуру.
— Ах, Захарка, Захарка, — сказал крестный, обнимая его; Захар тоже обхватил его за худые, слабые плечи; крестный был уже совсем старик. Захар близко глянул Игнату Кузьмичу в лицо, и тот, внезапно всхлипнув, притянул голову Захара к себе, и они крепко, трижды расцеловались. От этого Игнат Кузьмич совсем ослабел и, скрывая свою немощь, опираясь на палку, проковылял к скамейке, сел рядом с Васей, все еще не замечая никого, кроме Захара, вокруг. — Видишь, крестничек, хвораю я, — посетовал Игнат Кузьмич, отдышавшись. — Не думал тебя увидеть, а поминал, все номинал… Ну, да теперь вроде сразу помолодел… теперь и хорошо. Ты совсем к нам?
— Не знаю, — сказал Захар помедлив. — Может, и совсем. Тоже притомился я, крестный, от этой жизни.
— Ты еще в силе, тебе рано. — Игнат Кузьмич откровенно радовался Захару, и даже глаза у него переменились, слегка заиграли. — На то и человек, жизнь по нему колотит-колотит, а он себе идет да идет. Ты вот воздуху родного хлебнешь, перепелиный бой на зорьке послушаешь… в поля пройдешься — все как рукой снимет. Эх, бродяга ты, бродяга беспутный! — Игнат Кузьмич потряс палкой у себя перед лицом. — Бить тебя некому!
Игнат Кузьмич говорил и говорил, в людей вокруг становилось все больше; Захар с кем-то здоровался, кому-то что-то отвечал… Вначале ему было неловко и трудно, но затем что-то привычное и родное охватило его, и он уже не чувствовал никакой неловкости; наоборот, он, может быть, только теперь полной мерей понял, что за война прокатилась по земле; из редких писем от Егора, от крестного он знал, кто вернулся домой, кто пропал, но все это было не то. Именно сейчас он увидел в один момент, что сделала с людьми война; он подумал, что уже никогда не увидит не Харитона Антипова, ни Юрки Левши, ни Микиты Бобка, ни отца и братьев Мани, ни своего старшего сына Ивана, не увидит еще многих и многих знакомых с детства людей… Крепко, намертво был он связан сердцем вот с этим клочком земли.
Игнат Кузьмич давно уже приглядывался к съежившемуся рядом на скамейке Васе, затем поднял глаза и спросил:
— Это что, Манин меньшенький?
Захар молча кивнул, ему не хотелось сейчас говорить именно об этом, но он тотчас подумал, что в Густищах знают все и лучше один раз выпить отраву сразу до дна, но тот же Игнат Кузьмич, чувствуя неловкость за свой вопрос, перескочил на другое:
— Эх, Захарка, помнишь, как начинал ты председательствовать? Плохо у нас, крестничек, один разор…
— Что так? — уронил Захар довольно безразлично.
— Да, что, так от войны и не поднялись…
Вокруг заговорили, и бабы стали жаловаться, трясти юбками, показывая грубые заплаты, и Захар все больше и больше хмурился; ему припомнился приход Макашина и разговор с ним; сжав зубы, он молча слушал, — что он мог сказать им и что сделать? Если уж свою жизнь не мог хоть как-нибудь выровнять, что хорошего мог он посоветовать другим? Зачем они ему это говорят, чего ждут? — думал он. Или в самом деле прав Федька Макашин?
Обострившимся взглядом Захар как бы охватил сразу всех вокруг, охватил и тут же внутренне погас, но и эта на мгновение вспыхнувшая искра заставила сердце забиться сильнее. Нет, сказал он себе, хватит, дураков больше нет и не будет. К чему ему на старости лет эта каша? Уж ему-то корить себя не за что, все, что мог, отдал, выжал из себя, одна труха осталась от жизни. Вот чудеса, удивился он, еще раз обегая глазами толпившихся вокруг него людей. Вот как оно получается… Я-то, как раздавленный червяк, полз сюда, тепла искал, а оно вон как… Они тут меня другого помнят, им свое подавай…
Бабы все говорили и говорили, жаловались на жизнь и порядки, их становилось все больше, а переросшие девки, те, кого война тоже напрочь обездолила, держались подальше. Их Захар уже и не знал, но он сейчас видел цепко, как в молодости, по каким-то одному ему ведомым приметам угадывая породу, отца с матерью и даже деда с бабкой. Почему так? Сейчас бы за всех за них он пошел и принял любую, пусть самую лютую, смерть.
— Эх, бабы, бабы, — сказал он, сдерживая волнение и оттого особенно задушевно, — ничего я не знаю, но кое-что скажу, — Он медленно и пристально обвел загоревшимся взглядом застывшие перед ним лица, которые вдруг, дробясь и колыхнувшись, словно сошлись в одно большое, неясное лицо с пристальными знакомыми глазами; он мотнул головой, отгоняя наваждение.
— Ну? — словно выдохнула одной общей грудью толпа перед ним. — Говори, говори, черт, не тяни!
— Только земля нас, бабы, спасет… Земля! Рожать вам надо больше, бабы, — смеясь и оттого неожиданно молодея, сказал Захар громко и махнул ошарашенно качнувшейся толпе. — Вот в том и спасение и нам, и земле… Рожать!
— Тю! — не дали ему договорить. — Ты никак, Захар, на лесоповале голову надсадил.
— Рожать больше! От кого родишь, от общественного бугая? — Захар не узнал звонкого и задорного голоса, заглушённого долго не утихавшим общим хохотом.
— На все село десяток мужиков остался, да и те от самогонки как выложенные ходят. Хоть мордой его тычь, хоть…
Хохот и гвалт опять покрыли последние слова, и из общего охватившего баб веселья выплеснулся чей-то стонущий от забавы и удовольствия голос:
— Ох, тут и тебя, Захар, жеребца сивого, на всех не хватит! Не справишься с такой непосильной пятилеткой, враз ноги по лавке протянешь!
И опять Захар не узнал, кто говорит.
— Срам, срам, — тихонько перекрестилась Варечка Черная, но Захар отчетливо слышал каждое ее слово. — Думали, в чужих-то землях мозгов набрался, а он последние растерял… И что только мелет, тут роженых не накормишь как след…
— Молчи, Варвара, ты все такая же поперечная, вижу, — сказал ей Захар, в его голосе по-прежнему держалась теплота. — Раз нет в селе детей, значит, нет в нем и жизни. Конец подходит. За все утро трех или четырех малых ребятенков всего и увидел. Это как? Вы что, на погост всем миром задумали? Рожать, бабы, надо, назло всему рожать, а от кого… Ишь разборчивые какие! — улыбнулся он, — Захочешь, найдешь от кого, только не привередничай! Не по времени!
Опять всплеснулся над толпой гул и смех, и что-то опало в душе Захара. Какой он им учитель, этим людям, прошедшим все, что только выпадает на долю человека? Сам-то он кто таков, чтобы учить? Народ зря рожать не перестанет, значит, почему-то так надо. И от этой мысли он холодно, одними глазами, усмехнулся, насильно прихлопывая тяжелой крышкой поднимавшееся тепло. Никто, кроме Игната Кузьмича, ничего не заметил, но тот истолковал это по-своему.
— Знаешь, крестный, что об этом говорить, видишь, как меня подчас заносят на стремя. — Захар махнул рукой. — Что было, не вернешь, а что будет — посмотрим.