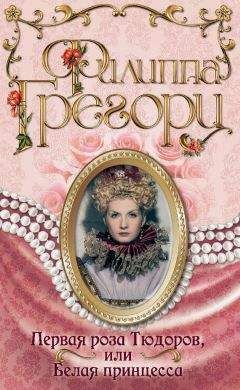— Никому из людей не дано воздействовать на других силой проклятия, — твердо сказал священник, повторяя официальное мнение Церкви. — Во всяком случае, ни одна нормальная женщина на такое не способна. То, что совершили вы, ты и твоя мать, было совершенно бессмысленно, ибо вы, женщины, почти потерявшие рассудок от горя, попытались воплотить в жизнь первую же бредовую идею, которая пришла кому-то из вас в голову.
— Значит, ничего не случится? — с недоверием спросила я.
Он ответил не сразу, потом все же решил быть со мной честным и сказал:
— Этого я не знаю. Но я стану молиться, чтобы ничего не случилось. Надеюсь, Господь милостив. Хотя, возможно, ваше проклятие окажется стрелой, выпущенной наобум, во тьму, и теперь ее полет уже никому не остановить.
Остров Уайт. Лето, 1499 год
Выйдя из родильных покоев, я обнаружила, что весь двор увлечен подготовкой к чудесной длительной поездке по всему южному побережью — через Кент, Сассекс и Хэмпшир, словно эти графства никогда не поднимали меч против короля Тюдора, словно там никогда не собирали войско в поддержку «этого мальчишки». А в Портсмуте нам предстояло сесть на корабль и переправиться на остров Уайт, неясным синим пятном видневшийся на горизонте. Мы были твердо намерены весело провести время и, что гораздо важнее, показать всем, что совершенно счастливы.
Улыбка застыла у Генриха на лице как маска. И повсюду с ним рядом была леди Кэтрин; во всех поездках ее прекрасная вороная кобыла, недавний подарок Генриха, шла бок о бок с его боевым конем. Теперь он ездил исключительно на своем огромном боевом коне, словно напоминая всем, что он не только король, но и главнокомандующий. Леди Кэтрин слушала его речи, мило склонив голову и улыбаясь. Когда он был весел и шутил, мы слышали ее смех; а если он просил ее спеть, она, не отказывая, пела для него песни шотландских горцев, полные грусти и тоски по утраченной ими родине, и в итоге он всегда говорил: «Леди Кэтрин, прошу вас, спойте нам что-нибудь веселое!», и она, улыбнувшись, тут же начинала какое-нибудь веселое рондо, к которому тут же присоединялся весь двор.
Я смотрела на них, словно откуда-то из далекой дали. Я, разумеется, видела, как они прогуливаются вместе, но лишь смутно слышала, что они говорят. Я знала, что наблюдаю за ними примерно с тем же чувством, с каким королева Анна, жена моего Ричарда, наблюдала за нами из своего высокого окна, когда мы с Ричардом рука об руку гуляли по саду, и я прислонялась к нему, ибо страстно жаждала его прикосновений. И теперь я никак не могла обвинять леди Кэтрин в том, что она заманила короля Англии в ловушку — ведь всего несколько лет назад и я вела себя точно так же, даже хуже. И уже, конечно, я никак не могла обвинять ее в том, что она так молода — она была на восемь лет моложе меня, а я тем летом чувствовала себя настолько усталой и старой, словно мне уже стукнуло девяносто, — и так хороша собой. Красавицам при дворе всегда уделялось особое внимание, а на леди Кэтрин действительно смотреть было одно удовольствие. И уж менее всего я могла обвинять ее в том, что именно она заставила короля отвернуться от меня, его жены; я прекрасно понимала: она пошла на это только потому, что такова единственная возможность спасти ее мужа.
Вряд ли она была увлечена Генрихом, тогда как он был увлечен ею весьма сильно. По-моему, она довольно умело держала его в узде, и он находился от нее не далеко и не близко, как раз на том идеальном расстоянии, которое давало ей возможность с легкостью на него воздействовать — развлекать, отвлекать, утешать и смягчать его яростный нрав, — чтобы сохранить жизнь ее любимому человеку.
Она, должно быть, слышала — да и кто при дворе этого не слышал? — разговоры о возможном побеге «этого мальчишки». Герцогиня Маргарет прислала из Фландрии своих людей, и те повидались с ее любимым протеже и племянником, и теперь все были уверены, что герцогиня прислала их для того, чтобы они шепнули ему: жди, и помощь придет. Все понимали: герцогиня непременно попытается его спасти. Она пользовалась в Европе большим влиянием, и многие европейские правители по-прежнему называли себя друзьями «этого мальчишки», хотя Генрих и сообщил им, что это всего лишь самозванец. Чувствовалось, что в поддержку «мальчишки» вновь собираются силы, и если его жене удастся сохранить ему жизнь хотя бы в течение этого лета, кто-нибудь непременно придет ему на помощь и вызволит его из тюрьмы.
И все же Генрих не предпринимал против него никаких действий; он просто держал его в заключении, позволяя ему, однако, постоянно принимать посетителей. Леди Кэтрин по-прежнему находилась рядом с королем и время от времени быстрой улыбкой или тихим вопросом напоминала ему об обещании быть милосердным к тому, за кого она якобы по ошибке вышла замуж. Она всегда была готова дать королю понять, что способна простить причиненные ей унижения и, возможно даже — кто знает? — однажды вновь в кого-то влюбиться, так что «мальчишке» вовсе не обязательно умирать, чтобы освободить ее; она уже и сама подумывает о том, чтобы аннулировать их брак. Генрих чуть ли не каждый день предлагал ей написать папе римскому и испросить у него разрешения на расторжение брака. Собственно, уверял ее Генрих, это совсем нетрудно, это всего лишь небольшая формальность, ведь ее обманом заставили выйти замуж за того, кто присвоил себе чужое имя и титул. Ее, юную девушку, попросту ослепила привлекательная внешность и шелковые рубашки этого молодого человека. Но еще не поздно, и все можно в корне переменить; для этого достаточно одного-единственного письма из Рима. Леди Кэтрин говорила королю, что не хочет спешить, однако часто думает о совершении подобного шага и даже беседует об этом с Богом во время молитв, которым предается по три раза в день. Порой с легкой улыбкой она как бы невзначай замечала, как сильно ее искушает мысль вновь стать свободной, незамужней женщиной.
Генрих, влюбившийся впервые в жизни и ставший мечтательным и доверчивым, как теленок, смотрел на нее и улыбался; особенно если видел ее улыбку. Он верил ей, когда она говорила, что считает его великим и могущественным правителем, которому ничего не стоит простить такое ничтожество, как ее муж, ибо в милосердии и проявляется истинное величие. Он часто приглашал леди Кэтрин в свою приемную в те моменты, когда к нему кто-то приходил с просьбой, и все поглядывал на нее, желая убедиться, что она внимательно слушает его разговор с просителем, и, разумеется, проявлял необычайную щедрость, прощая штраф или изменяя судебный приговор. Он, например, велел ей присутствовать во время довольно серьезного разговора с послом Испании, который весьма тактично ушел от главной темы — требования испанцев незамедлительно казнить «этого мальчишку» и моего кузена Тедди. Все-таки рядом присутствовала дама, которая в результате этого могла стать вдовой. Однако посол остался недоволен: король и королева Испании продолжали настаивать на соблюдении данного условия, чтобы брак принца Артура с их дочерью все-таки состоялся.
Мы остановились в замке Карисбрук, окруженном стенами из серого камня, и каждый день выезжали на прогулку по роскошным зеленым лугам, раскинувшимся вокруг, то и дело вспугивая жаворонков, взмывавших в абсолютно синее небо. Леди Кэтрин сказала, что у нее никогда еще не было такого веселого лета, а Генрих возразил ей, утверждая, что в Англии каждое лето такое ясное и теплое, а уж когда она проживет здесь несколько лет, радуясь летним денькам, то и совсем позабудет свою холодную дождливую Шотландию.
Муж навещал меня в спальне по крайней мере раз в неделю, но чаще всего сразу засыпал, едва коснувшись головой подушки, до такой степени его утомляли ежедневные прогулки верхом и танцы, которые устраивали почти каждый вечер. Он понимал, что мне плохо, что я несчастлива, и чувствовал свою вину, но расспрашивать меня не осмеливался — боялся, что я стану обвинять его в неверности, в прелюбодеянии, в том, что он нарушил супружескую клятву. Ему определенно хотелось избежать любых неприятных разговоров, и он, решительным шагом войдя в мою спальню, весело мне улыбался и тут же направлялся к постели; потом говорил: «Благослови тебя Господь, моя дорогая! Спокойной ночи!» — и закрывал глаза, даже не пытаясь дослушать мой ответ.
Я была не настолько глупа, чтобы жаловаться на постигшее меня разочарование и плакать из-за того, что мой муж больше на меня не смотрит, что он увлечен другой, более молодой и красивой женщиной. Не разочарование в любви стало причиной того, что ноги у меня будто налились свинцом, так что мне больше не хотелось не только танцевать, но даже просто гулять, и уже с самого утра сердце мое начинало мучительно ныть. Нет, я была не настолько предана Генриху, что стала бы так терзаться из-за его утраченной любви. Виной всему были тревога за того юношу, что томился сейчас в Тауэре, и мой все усиливавшийся страх. Мне казалось, что здесь, вдали от Лондона, стражи, которых приставил Генрих к «этому мальчишке», могут сговориться со своими приятелями из темных переулков и сомнительных постоялых дворов и сделать все, что угодно. Они могут составить заговор против «мальчишки», могут разослать порочащие его послания и в итоге сплетут веревку, достаточно длинную, что ее хватит и для казни «мальчишки», и их самих в придачу. Я чувствовала, что разговоры о том, что доступ к «мальчишке» совершенно свободный, что к нему постоянно приходят разные люди, — это не просто сплетни и не проявление халатности его стражи, а часть той истории, которую сознательно плетет Генрих. Он любыми средствами желает доказать, что этот «сын служителя шлюза из Турне» — лживый и трусливый обманщик; что он с помощью всяких темных личностей плетет очередной заговор против короля, а потом поведет их, как последних глупцов, на верную смерть.