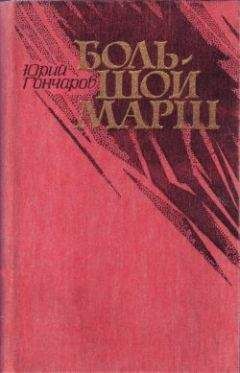В детстве, маленьким, он часто болел. Еще грудным, в качке, он сильно простыл из-за отворившейся ветром форточки, и потом к нему все время липли простуды. До сих пор в его памяти сохранилось ощущение душного жара, в котором он качался на куда-то уносивших его волнах. День и ночь смешивались, он ненадолго просыпался, всплыв наверх, к свету, из какой-то тьмы, и снова блаженно, безвольно утопал в ней. Приходил доктор Штейнберг, полненький, розовощекий, в очках, делавших его глаза бусинно-точечными, как у птички; вымыв в приготовленном для него тазу руки, грел ладони о кафельные плитки натопленной печи, присаживался на край кровати, приподнимал на Климове рубашонку и пальцами, которые все равно были холодными для охваченного сорокаградусным жаром Климова, выстукивал его худую ребрастую грудку, спину, мял животик. За доктором Климов видел тревожное лицо мамы, ждущей, какой приговор вынесет доктор. Потом, уже взрослому, она рассказывала Климову, что два раза он едва не умер, такое сильное было у него воспаление легких. А лечили тогда эти воспаления только теплом, компрессами, никаких специальных препаратов медицина еще не имела.
Сколько же он маленьким провел в постели, если из самого раннего детства в его памяти не осталось никаких других картин, он не запомнил ни своих игр, ни игрушек, ни прогулок во дворе и по улицам, ни других детей, которые, наверное же, появлялись возле него, только одно это – железные грядушки кровати, в которой он лежит под толстым ватным одеялом, очки и руки доктора Штейнберга и встревоженное, чуть не до отчаяния, лицо мамы… Отца он почти не видел в том своем детстве, отец был партийным работником, и все время его посылали в сельские районы, то на весенне-полевые кампании, то на уборку, то на заготовки хлеба. Климов начал его помнить уже семилетним, тогда шло создание колхозов, отец ездил агитировать крестьян в самые неспокойные деревни. В одной из них его и убили – во время собрания, выстрелом из обреза в окно…
Но мама всегда была рядом. Утром натягивала ему на ноги чулочки, застегивала помочи штанишек, кормила с ложечки, спасала в болезнях. Если жизнь его, обращавшаяся в тоненькую ниточку, не оборвалась тогда же, в тех его тяжких младенческих хворях, надолго ввергавших в беспамятство, то только потому, что была она, мама, и своими безмерными усилиями, отчаянием и болью за него отстаивала, удерживала в его тельце живое тепло.
Какая крепкая, надежная защита была у него тогда… И все годы потом, пока была жива мама, – даже когда она стала уже стара, почти без сил, едва ходила на отекших ногах. Все равно у него была опора, защита и помощь, каких не стало после ее смерти, нет сейчас и никогда для него уже не будет…
В открытых его глазах, устремленных в пустую белизну потолка, само собою являлось то, что он старался пореже вспоминать: как умерла мама и он приехал по телеграмме, пришел домой, ему дали ключи, которые были в кармане ее пальто, и он отпер дверь, закрытую ее руками, и вошел в квартиру. Неделю назад он уехал с напарником в Ростов, надо было получить большую партию котельных манометров новой конструкции. Ростов его захватил, он впервые был в этом городе. Дни крутился в хлопотах, а вечерами бежал посмотреть что-нибудь в театрах. И вдруг, в разгар всех его дел, посреди дня – телеграмма: «Мама умерла, выезжайте. Клавдия Ивановна». Сначала он ничего не понял: какая мама, чья? Его мама была здоровой, когда он уезжал, то есть такой, как всегда, прихварывающей, с гипертонией, которая тянулась у нее уже много лет, отеками в ногах, болевших к вечеру и особенно утром, когда надо было встать с кровати и сделать первые шаги; эти боли сильно ей досаждали, но все же позволяли ходить, делать по дому всю нужную работу. У нее было свое оригинальное средство, чтобы на время забывать недуги, отключаться от них: она покупала в кино билет на дневной сеанс, когда мало народу и дешевые места, куда-нибудь на первые ряды, чтобы лучше слышать и с удовольствием, забывая себя, смотрела всё, что бы ни шло – хронику, приключения, цветные мультяшки для детей. Все ей было одинаково любопытно и интересно. Тогда уже входили в быт телевизоры, кое у кого уже стояли в квартирах, таким счастливцам завидовали, вечерами смотреть передачи к ним собирались жильцы чуть не всего подъезда. И мама робко говорила Климову – давай когда-нибудь и мы купим… Ей очень хотелось телевизор, ей было бы легче жить, нести свою старость. Говорила – и сама понимала, что это несбыточно: из ее маленькой пенсии и его зарплаты начинающего инженера на телевизор не соберешь… Провожая Климова в Ростов, она напекла ему в дорогу пирожков с капустой, пирожки эти еще не кончились, с пяток еще лежало в его чемодане под гостиничной койкой… Он снова перечитал телеграмму. Какая-то Клавдия Ивановна… Да ему ли эта телеграмма? В начале четко стояли его фамилия, имя… И его осенило: Клавдия Ивановна – это же та женщина маминых лет, со второго этажа… Он почти незнаком с ней, ведь дом заселен совсем недавно, а с мамой она успела сдружиться, у них какие-то свои ежедневные разговоры, обмен магазинной информацией – где что «выбросили», где что «дают», советами, как легче стирать белье, рецептами домашних пирогов и печений.
Он оставил все на напарника, кинулся на вокзал. Билетов не было. Он пробился к окошку дежурного, показал телеграмму. «Не заверенная!» – отбросил телеграмму дежурный. Все-таки он купил билет, с рук, в бесплацкартный вагон. Поезд пришел утром. Всю ночь Климов не спал, стоял в тамбуре, курил, внутренне все подгоняя и подгоняя поезд: у него было не оставлявшее его чувство, что он может еще что-то сделать, только бы быстрее попасть домой…
И вот он стоял перед обитой коричневой клеенкой дверью в их квартиру, с почтовым ящиком, в дырочки которого виднелось лежащее внутри письмо. Это было его письмо из Ростова, письмо маме, в котором он писал, как доехал, где устроился, как красива набережная, какой обильный рынок, продают вяленых чебаков, он обязательно купит, когда поедет обратно. Клавдия Ивановна передала ему ключи: мама умерла не дома, в магазине. Пошла за хлебом, ей стало плохо, закружилась голова, ее подхватили, посадили на стул, позвонили в «скорую», но помощь была уже не нужна, «скорая» только отвезла ее в морг. Всю жизнь, с ранней молодости, она провела в труде, хлопотах, заботах, боялась сделаться лежачей больной, в тягость окружающим, и вот словно бы исполнилось ее желание: умерла на ходу, лишь на пять минут обеспокоив собою людей…
В квартире все было так, как она оставила, уходя из нее сутки назад: была раскрыта, не застелена ее постель, под подушкой лежала книга, которую она читала накануне вечером, «Золотая роза» Паустовского, с закладкой на сто тридцатой странице, на электроплитке стояла кастрюлька с кипяченым молоком, возле швейной машинки лежало какое-то шитье, которое она готовила для себя; долгие годы нехваток, нужды, карточек, двадцатые, тридцатые, военная и послевоенная разруха привили ей привычку, от которой она уже не могла избавиться: шить для себя не из нового материала, а все ладить из стареньких вещей, перелицовывать, красить, подштопывать…
С тесным, сдавленным горлом переходил Климов из комнаты в кухню, из кухни в комнату: во всем присутствовали мамины руки, во всем была она – живая, деятельная, хлопотливая; казалось – телеграмма и все, что ему рассказали, неправда, еще миг – и он услышит за дверью ее приближающиеся шаркающие шаги, ее голос. Все в нем не верило, не хотело соглашаться, не могло принять того, что ее нет, нет совсем и никогда не будет, никогда она не вернется сюда, не дочитает «Золотую розу», не дошьет то, что лежит на машинке, эти куски черной материи, вероятно юбку, прометанную белыми стежками…
И только после похорон, кладбища, когда вырос невысокий бугор рыжей глины, смешанной с черной землей, он стал осознавать это. Но все еще – глухо, не полностью, не понимая, что это не только навсегда ушла от него мама, самый близкий ему человек, это оборвалась, ушла, исчезла из мира и самая сильная любовь, которой его любили. Единственная в каждой человеческой жизни истинная любовь, потому что она бескорыстна, всегда готова на жертвы, не знает измен и, пока есть на земле мать, не знает конца. Она уходит от каждого вместе с матерью, а понять ее, оценить – дано только тогда, когда ее уже нет…
…Наверху в чьей-то квартире стояли старинные часы с боем; каждый час они били протяжными, слегка дребезжащими ударами. Когда бой прекращался, с минуту казалось, что в тишине дома что-то еще продолжается, что-то плывет в неподвижном воздухе комнат, смутное, медленно затихающее. Климов считал, что это обман слуха, а потом все же открыл, что́ рождает это слабое эхо. В спальне приятеля на стене висела старая гитара с потертым грифом. Это ее струны отзывались на мерные удары часов. Поначалу эти звуки беспокоили, но скоро Климов свыкся с ними и даже полюбил. Под них было хорошо засыпать, слышать их во сне; далекий бой старинных часов и тихий резонанс гитарных струн создавали домашний уют, которого для Климова не было в чужой квартире…