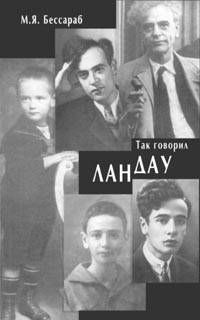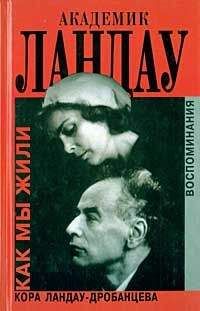Она не нуждалась в помощи. Мела ли никольская вьюга, Шура отважно пускалась в путь, поземка заносила маленький, вдавленный в едва угадываемую тропинку след валенок, и завеса снега тут же скрывала женскую фигурку; обрушивался ли на землю майский ливень, Шура, не выказав ни тени досады, накрывалась мягкой клеенкой и устремлялась к школе, до которой было идти и идти по расквашенной дороге; ударяли ли рождественские морозы, она, без слов отдав мужу овчинный полушубок, выходила с ним из дому в стареньком пальто тети Тали, отворачивая лицо, чтобы пар ее дыхания не смешивался с паром его дыхания, и бежала к мосту, словно там, за рекой, в деревянном доме бывшей дворянской усадьбы с башенкой на втором этаже, где учительницы, бывшие фронтовички и партизанки, пили нескончаемый чай, находился ее настоящий дом.
Анатолий тоже избегал излишних споров. Краткий период выяснений для него минул, оставив непроходящее чувство недоумения и мужской обиды. Он без единого слова отдал бы ей и зонт, и полушубок, попроси она его об этом, но Шура не желала просить. Между прочим, полушубок ей необходим был даже больше, чем ему. Идущего на работу Анатолия в соседней деревне почти всегда подхватывал «козлик», управляемый молодым бухгалтером автопарка, а Шуру на окраине Куткова поджидал учитель труда и, если дорога была накатанной, усаживал в самодельные финские сани и мчал ее в Цыганки, где находилась школа, распевая во все горло пионерские песни. Она — на санках, он — на «козлике», с каждой минутой расстояние между ними увеличивалось, росло — расстояние, которое она не так давно, в траурную рыдающую весну, решила сократить из какой-то странной прихоти, похожей на помрачение, навеянное, наверное, фольклором, идущим от самой земли, умаляющим личное и навязывающим родовое и вечное, поддавшись его талантливому мужскому напору. Траурная весна государственной тризны пронеслась между шумными похоронами и тихой свадьбой, между железным тыном и огненной рекой и улеглась в фотоснимках под слой выпавшей на бумагу серебряной пыльцы, как под седую воду.
Анатолий же в свободное время повадился ходить в гости. С некоторых пор он опекал двух бывших народоволок, дряхлых сестер Шацких, колол им дрова, забрасывал в сарай уголь, за что они платили ему воспоминаниями о временах своей пламенной молодости, делились подробностями актов против тех или иных царских сановников, а Шура, чтобы ее дыхание не смешивалось с его дыханием, избегала о чем-либо его просить, даже воду носила из колодца сама. Она вгрызается в суглинок лопатой, греет руки в навозе, торфе и древесной золе, отгораживается от мужа пухлым справочником садовода, саженцами яблонь и жимолости, таскает землю домой, чтобы прорастить в ней огурцы и свеклу, бросает в нее семена.
С некоторых пор она не переносит ни его тени в саду, ни его отражения в зеркале. Стоит ему приблизиться к ней, как садовые ножницы начинают лихорадочно клацать над малинником, стоит подойти к простенку, где висит зеркало, она тут же уносит свое отражение. Что делать! Что делать! Она и за столом не хочет сидеть вместе с ним, вечно пританцовывает с бутербродом в руке над какой-нибудь книжкой. Заслышав голос Лемешева, быстро прибавляет звук в радиоточке, чтобы не слышать Толин голос. Прозрачно и отрешенно звучат скрипки, интонирующие мотив Грааля. На светлых волнах Шельды покачивается ладья, влекомая белым лебедем, в ней рыцарь в сверкающих на солнце доспехах. «Ты никогда не спросишь, откуда я и как зовут меня». Ни о чем Анатолия никогда не спросит, как будто у него нет своего мнения, собственного голоса, высокого, почти как у Лемешева. Но сейчас время низких голосов, басов или баритонов. Громких. Уверенных в себе и своем праве. «Кто быть слугой Грааля удостоен, тому дарит он неземную власть, тому не страшны вражеские козни: открыто им то, что враг должен пасть!» Анатолий прислушивается к этим новым уверенным голосам, не объявят ли они о пересмотре дела Шуриного отца, чтобы она смогла снова взять его фамилию. «С чего ты взял? — ровным голосом отвечает Шура. — Не собираюсь я этого делать. Я говорила об имени, а не о фамилии. Имя своему сыну я дам сама…» — «А если родится дочка?» — «Девочку можно назвать Надей. Хорошее имя — Надежда». Разговор происходит между кашей и какао, между отрешенными скрипками и рассказом Лоэнгрина. Анатолий поглядывает на часы. Шура стоит на одной ноге, с чашкой в руке, рассеянно улыбаясь в окно Юрке Дикому, который, перегнувшись через изгородь, что-то кричит ей. Не успевает Анатолий обернуться к окну, Дикого уже и след простыл. Анатолий закручивает Лемешева до отказа, перекрывает ему кислород. Шура невозмутимо тянет руку к радиоточке. «Как-никак я отец, не грех бы со мной посоветоваться насчет имени для сынка». «Отец мой Парсифаль, Богом венчанный, я — Лоэнгрин, святыни той посол!» Прозрачно и легко звучат аккорды деревянных духовых инструментов. Лейтмотив Грааля замирает в крайних высотах струнного оркестра. Голос Анатолия становится совсем высоким: «Что ты молчишь? Я, кажется, к тебе обращаюсь!» — «Ко мне», — как эхо отзывается Шура.
4
Подводные реки, плавучие острова
Вслед за солнцем они передвигаются легкими летучими отрядами, лютиковые семейства делают набеги на губоцветные, астровые вторгаются в пределы дымянковых, фиалковые просачиваются в толстянковые. Они бегут наперегонки, у каждого своя дистанция, свой период цветения. Цветы перебрасываются формой, как мячиком, — лепестки, язычки, трубочки, многоярусные мутовки, розетки, метелки, канделябры, розочки, зонтики, свечи, ушки несут соцветия в пазухах листьев, в корзинках, в полусферах, в гроздьях, и все это живет, дышит, трепещет, ютится невесомым перышком в складках стихий, перенимает их качества: анемон — ветра, пиретрум — огня, альстиба — солнца.
Над цветами стоит невидимое облако пыльцы, которой они обмениваются друг с другом, как любовники записочками, к тому же повсюду жужжат, стрекочут, трещат почтальоны, разнося корреспонденцию по адресам, затерянным в траве.
Куда бы ни направилась Надина бабушка Паня — главный декоратор канала Пелагея Антоновна, — цветы увязываются за нею, как музыка за военным оркестром: осыпают ее платье мелким сором, овевают пухом пыльцы, цепляются за нее усиками, как дети, пытаются осеменить ее волосы, ноздри, одежду. Многие из них зимуют в городской оранжерее. По весне они, как птицы из гнезда, выглядывают из контейнеров, которые бабушка несет в обеих руках или везет на тележке. Расширяющимися кругами цветы растекаются от Приречной площади, охватывают набережные и улицы, спускающиеся к пристаням, цветут на клумбах, рабатках, бордюрах, партерах, газонах группами и массивами, среди которых возвышаются солитеры: пион китайский, ирис сибирский, космея, клещевина. Клематис, душистый горошек, декоративная фасоль, ломонос и хмель осваивают вертикаль — ползут по проволоке, деревянной решетке, арке, оплетают подпорки, образуя зеленые колонны. Бабушка поддерживает на берегу реки иллюзию непрерывного цветения умелым сочетанием растений, расцветающих в разное время.
С весны до поздней осени цветовые пятна перемещаются по клумбам и газонам, вместе с птицами эта легкая, поспешная красота снимется с земли и улетит на запад солнца. Грустно, золоченые застежки слетели с воздуха, изумрудные шкатулки захлопнулись, закрылась навигация на Волге, усталые чудеса смежили веки.
Днем бриз насыщен морской влагой; ночью восходящий поток воздуха несет медвяные запахи побережья. Берег неровный, кое-где обрывистый; деревья с полуобнаженными корнями нависают над ожерельем валунов; на отмелях покачиваются заросли тростника и рогоза. Чистые березовые рощи сменяются полузатопленными сосновыми борами, с которых давно осыпалась хвоя. В засушливую погоду уровень водохранилища падает — и на дневную поверхность выходит часть затопленной Мологи. Вода полощется между остатками стен и фундаментом снесенных построек, деревянными заборами, шестами карусели на бывшей ярмарочной площади, где когда-то персы, арабы, греки, итальянцы, скандинавы, новгородцы обменивали бархат, переливчатый шелк, украшения из яшмы и серебра, восточные пряности на местный лен, беленые холсты, меха, мед, деготь, скипидар. В хорошую погоду сквозь воду видны очертания улиц, сохранившиеся руины домов, церковь со взорванной колокольней, где теперь хозяйничают стайки рыб.
К площадке старого маяка ведет винтовая лестница, обвивающая металлический столб в узкой кирпичной шахте. Подъем Надя ощущает не столько ногами, сколько руками, которые, как невод, вытягивают из тяжелой, плещущей волнами тьмы ее тело. Кажется, что поднимаешься со дна колодца, пятно таинственного света маячит высоко над головой, и лестничная спираль закручивает идущего вверх медленно, постепенно, мигая по бокам окошками-бойницами. Надя рада любому судну, проходящему мимо маяка: и рейсовым судам, и тем, кто плывет вне расписания, — сухогрузы «Большая Волга», танкеры «Волгонефть», перевозящие нефтепродукты, лес, руду, соль, колчедан и лесоматериалы, толкач «Зеленодольск», теплоходы класса О, ходящие по водохранилищу, и класса Л — по малым рекам. Память у Нади как бабушкин ларь, в котором приплыло все ее добро на плоту во время великого переселения из затопляемой деревни, — серебряные наперстки, старые образа, коклюшки, бархатные лоскуты, медальон с часами, дубовый крест с могилы родителей, книги на медных застежках, яхонтовые пуговицы, фантики от ярмарочных тянучек — все, что могло, запрыгнуло в ее сундук, как зайцы деда Мазая. Все вперемешку. Так и у Нади в голове — и звезды, и названия бабушкиных цветов, и внутреннее устройство судов, а кому это все надо? Знакомый врач Лазарь Леонидович с туристического парохода говорил: «У тебя феноменальная память».