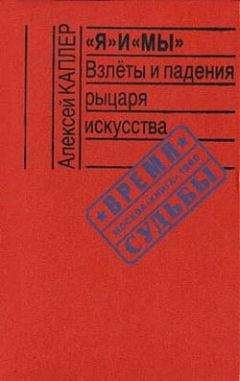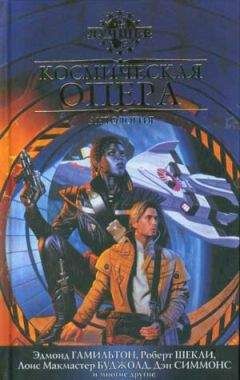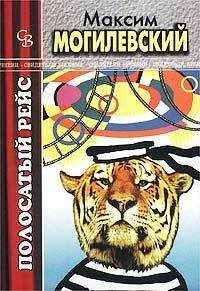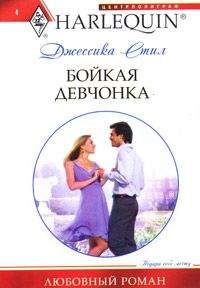У Бориса Гуза — маленького, круглого человечка — был тенор. При помощи этого тенора он издавал звуки оглушающей силы и сверхъестественной продолжительности.
Фермато Гуза могли выдерживать только одесские любители пения. Они вжимали головы в плечи, их барабанные перепонки трепетали последним трепетом, вот–вот готовые лопнуть, — но одесситы при этом счастливо улыбались — вот это–таки голос!
Гуз несколько раз обращался к начальству с просьбой освободить его, так как здесь, в Одессе, он уже «доучился», а в Ленинграде хотел совершенствоваться у — не помню какого — знаменитого профессора бельканто.
Но в обоих почтенных учреждениях к артистическим планам Гуза относились несерьезно: да, голос, да, верно… Но голос какой–то «дурацкой силы». Есть слух, это правда, но ведь никакой музыкальности…
В общем, пророк в своем отечестве признан не был. А в Ленинграде он вскоре стал известным оперным певцом.
Я слушал его однажды в «Кармен». Гуз был в то время уже премьером оперного театра и пел партию Хозе.
Он вышел на сцену — маленький, круглый, с короткими ножками и ручками, в курточке с золотыми позументами, толстенькие ляжечки обтянуты белыми рейтузами… сверкающие сапоги на высоком — почти дамском — каблуке.
И запел…
Это было невыносимо.
Меня поражало отношение к Гузу ленинградских музыкантов: как они могли его терпеть?
Бесчисленные хвалебные рецензии, огромные буквы его имени на афишах — все говорило о колоссальном успехе, о признании.
Видимо, и здесь настолько высоко ценился голос, сила и чистота звука, что все остальное ему прощали — и отсутствие артистизма и вкуса, и смешную внешность, и одесский, о какой одесский! — акцент.
В память Одессы я терпеливо прослушал целый акт, глядя на то, как коротенький дон Хозе пылко изъяснялся в любви крупногабаритной Кармен, делая традиционные оперные движения, не имеющие ровно никакой связи с содержанием арии. Он то разводил руками, то протягивал одну из них вперед, в публику, куда и обращал тексты, предназначенные стоявшей в стороне любимой.
Она же пережидала арию Хозе, тоскливо упершись в талию кулаками, и по временам пошевеливала бедрами, приводя тем в движение свои многослойные яркие юбки.
Но вот Гуз брал с легкостью верхнее до и держал его так долго, что казалось, в конце этого фермато певец обязательно упадет замертво.
Но Хозе не падал, а все тянул оглушительный звук, и публика (ленинградская публика!) неистово аплодировала и кричала «бис!»
Я угрюмо наблюдал это, понимая, что молодость прошла, ибо раньше со мной тут обязательно случился бы припадок истерического смеха.
Теперь мне все это казалось только грустным.
Новый заведующий Посредрабисом появился в Одессе неожиданно.
В тот день, как всегда в шесть пятнадцать вечера, в Одессу прибыл петроградский поезд.
Из первого вагона вышел на перрон очень высокий, худой человек с кавалерийской шинелью на одной руке и потрепанным фибровым чемоданом в другой.
На Андриане Григорьевиче Сажине был френч с обшитыми защитной материей пуговицами, галифе, сапоги.
Сажин поправил очки на носу, огляделся и увидел белогвардейского офицера.
Их было тут много, белых офицеров, — один свирепее другого, и пассажиры испуганно смотрели на них.
Но вот, усиленная рупором, раздалась команда режиссера: «Белогвардейцы налево, чекисты направо! Шумский, приготовились!..»
Пассажиры успокоенно заулыбались. Часть перрона — место съемки — была отгорожена веревкой. В стороне — для порядка — стоял милиционер. Светили юпитеры.
— Внимание! — кричал режиссер. — Шумский, бросайтесь на студентку! Стоп! Разве так каратель бросается на революционерку! Как зверь бросайтесь! Внимание! Начали! Стоп! Послушайте, курсистка, вы же абсолютно не переживаете! Он вас сейчас убьет или изнасилует, а вы ни черта не переживаете! Внимание! Начали… зверское лицо дайте… так… Хватает ее… Курсистка, переживайте сильнее… так… душит… хорошо… очень хорошо… падайте же… так… стоп!
По вокзальной площади растекались приехавшие.
Сажин обратился к старику, стоявшему задумавшись у фонарного столба:
— Простите, вы здешний? Не объясните, как пройти к окружкому партии?
— Молодой человек, — ответил старик, — хотя вы нанесли мне тяжелое оскорбление, дорогу я вам покажу.
— Оскорбление? — удивился Сажин.
— Спросить у вечного одессита, или он «здешний»… Я такой же кусок Одессы, как городской оперный театр… «здешний»… Ну хорошо, идем, я как раз в ту сторону…
Они пересекли площадь и пошли по зеленой Пушкинской улице. Сажин по временам кашлял, закрывая рот платком.
Старик говорил не умолкая — давал на ходу объяснения, рассказывал историю то одного, то другого дома.
— …А вот если пойти по Розе Люксембург, вы выйдете на Соборную площадь, и там стоит дом Попудовой, в котором умерла Вера Холодная. Буквально весь город шел за гробом… Послушайте, у вас там, часом, не гири? — спросил он, видя, с каким трудом несет Сажин свой чемодан.
— Книги… — ответил Сажин.
— Гм… книги… смотря какие — бывают такие, что даже гири умнее…
— Нет, у меня хорошие книги, — усмехнулся Сажин.
— …А вот там гостиница «Бристоль». А рядом бар Гольдштейна. Это единственный нэпман, которого никто не смеет пальцем тронуть. Фининспектор обходит по другой стороне улицы. Гольдштейн когда–то спрятал Котовского от полиции, и тот дал ему после революции грамоту: «Гольдштейна не трогать». Ну, вот вы пришли в окруж–ком. До свиданья и вытряхните из ушей все, что я вам говорил.
Старик повернулся, пошел. Но вдруг остановился, возвратился к стоявшему перед окружкомом Сажину и сказал:
— У меня десять дней назад умерла жена. Всю жизнь прожили… — и ушел.
Сажин смотрел ему вслед — старик возвращался в сторону вокзала. Видимо, ему и не надо было сюда приходить.
Несмотря на то что рабочий день давно кончился, в коридорах толпились посетители. В конференц–зале шло заседание.
На стене кабинета товарища Глушко висел плакат: «Из России нэповской будет Россия социалистическая». Глушко знакомился с документами сидевшего против него Сажи на.
До революции Сажин был учителем русского языка в петроградской гимназии.
Интеллигент в первом поколении, сын бедняка–крестьянина, Сажин сам пробил свою дорогу в жизни.
Реакционные умонастроения и монархические взгляды некоторых коллег–учителей оказали большое влияние на Сажина — влияние отталкивающее.
Он долго приглядывался к различным партиям, знакомился с их программами, читал Бакунина, Маркса, Бердяева, Ницше и в апреле 1917 года принял окончательное решение — вступил в партию большевиков — РСДРП (б).
Было ему тогда 25 лет.
Учение Маркса он продолжал изучать, и оно представлялось ему не только неоспоримо верным, но и единственно возможным.
Вскоре Сажин бросил педагогику и стал активистом, партийным работником Выборгского райкома в Петрограде. Накануне Октябрьских дней и в дни восстания он выполнял бесчисленные мелкие поручения, после Октября выступал на митингах, читал лекции.
Его контакту с аудиторией несколько мешала близорукость, ибо, выступая, он снимал свои очки — минус одиннадцать, — и все становилось расплывчатым, он видел только какие–то неясные очертания, светлые и темные пятна.
А оратору ведь необходимо различать лица слушателей, а то и выбрать кого–нибудь среди них, чтобы обращаться как бы лично к нему.
Очки же, по странному убеждению Сажина, были чем–то вроде признака человека чуждой среды и могли помешать его общению с рабочей и солдатской аудиторией.
Гражданскую войну Сажин провоевал в Первой Конной.
Близорукость и очки с толстыми стеклами не помешали военкому эскадрона Сажину стать отличным всадником, лихо носиться на коне, владеть шашкой, храбро биться с врагами и заработать две сабельные раны и пулю в сантиметре от сердца.
Закончилась война.
Демобилизованный после лазаретов по чистой, Сажин был направлен на работу в отдел народного образования. А еще через год, по настоятельному совету врачебной комиссии, которая нашла у него серьезный непорядок в легких, Сажин переехал на юг.
— Послушай, товарищ Сажин, — я вижу, последние годы тебя все по госпиталям таскали… — сказал Глушко, рассматривая документы.
— Легкие подводят. Проклял я эти госпитали. От жизни отстал.
— Мне про тебя писал Алексей Степанович, про то, что медики велели обязательно на юг… Подумаем, что можно для тебя сделать…
Раздался стук в дверь. «Входи!» — крикнул Глушко, и в комнату вошел низкорослый человек в матросском суконном бушлате. Вид у матроса был устрашающий — выдвинутые вперед железные скулы и стальной подбородок, глубоко сидящие глаза и нависшие над ними густые, кустистые брови. Однако при всем этом грозном обличье матрос был, видимо, чем–то смущен.