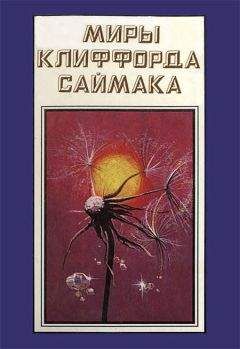Сестра Клер подошла к окну и оказалась на опасно близком расстоянии от моего укрытия. Я ощущала тепло, исходившее от ее тела.
– Взгляните на подоконник, что вы на нем видите, если не следы копыт? – спросила она мать Марию. – И разве не скрипка пропала из всех ваших мирских вещей?
– Доставьте дитя в монастырский лазарет, – ответила та. – И положите конец этому безумию.
– Безумию, да? – взвилась начальница школы. – Безумие в том, что вы начальствуете над целым монастырем, где учится сотня девиц, но не в силах справиться с одною из них, вашей любимицей.
– Вы угрожаете мне, сестра?
– О да, и еще как… По правде сказать, я уже давно жду вашего падения. – С этими словами, произнеся шепотом «Adieu, ma mere»[9], сестра Клер повернулась, чтобы уйти; Елизавета все еще находилась у нее на руках, и, когда монахиня поворачивалась, ножка девочки задела за ткань туфелькой, словно крючком, и отвела ее в сторону, как раз настолько, чтобы стал виден самый кончик смычка, который я держала в руке.
Сестра Клер, быстро передав безжизненную девочку матери Марии, отдернула темную ткань занавеси с такой силой, что кольца чиркнули по железному стержню.
– Ну конечно, – воскликнула она, выхватывая у меня скрипку. – Мне следовало догадаться. Сообщница. – Она швырнула скрипку на стол и занесла надо мной смычок. Я подняла руки, защищая лицо: она хлестнула бы меня им, словно смычок был кнутом, а я медлительным или упрямым животным.
– Стой, – крикнула мать Мария и встала между мной и начальницей школы. – Убирайся отсюда, ты… зверюга !.. Прочь с моих глаз.
Повисло молчание. Девочка на руках настоятельницы застонала и стала приходить в себя.
– Я уйду, – проговорила сестра Клер. – Но вот она… – и, грубо схватив мою руку, монахиня поволокла меня к двери, – она пойдет вместе со мной.
Меня наказали. Всю оставшуюся часть дня я провела в кузнице, обтесывая грубые сосновые доски для полок в кладовке, прежнем моем жилище. Время тянулось невыносимо медленно. Вскоре после того, как наше преступление раскрылось и сестра Клер, кипя гневом, отволокла меня к месту отбытия наказания, над С*** разразилась гроза; она длилась долго и порой переходила в настоящую бурю.
Работа оказалась трудной, ибо понадобилось орудовать не только рубанком, но также стамеской, долотом и ножовкой; к тому же доски были тяжелыми. Огонь в кузнечном горне еле теплился, воздух из-за дождя был совсем сырой, так что в маленькой, стоящей в стороне от монастыря кузнице я чувствовала себя неуютно. И все-таки я не ушла оттуда. Пришлось остаться. Вскоре пот заструился по всему телу; капли его падали с носа на доски, словно вторя стуку дождя по крыше; через открытую половинку двери я видела его косые серебряные нити, льющиеся с обложенного свинцовыми тучами неба, такого низкого, что казалось, оно хочет меня задушить.
За все это время у меня побывало лишь два посетителя, верней, три, если считать сестру Клер, забегавшую пару раз, чтобы обрушить на мою голову очередную порцию угроз, сводившихся к обещанию новых и новых трудовых повинностей. Сначала пришла Мария-Эдита, чтобы, рискуя многим, предложить мне яблоко, вдруг оказавшееся невыразимо вкусным, и смену сухого белья. Затем появилась мать Мария; было уже совсем поздно; похоже, ей хотелось, чтобы я простила ее, хотя непонятно за что.
– Как неразумно было, – проговорила она, – потакать моей племяннице. Разве я не предупреждала тебя?
– Предупреждали, – ответила я.
Однако где была Перонетта? С прочими воспитанницами? Или ее тоже наказали? Стало ли всем известно о нашей проказе? Отмерила ли ей сестра Клер такое же наказание, как и мне? Но мать-настоятельница не ответила ни на один из вопросов. Она подняла руку, словно останавливая меня, и сказала:
– Боюсь, случится то, чему не следовало бы происходить. Равновесие полномочий в монастыре нарушилось.
– Что вы хотите сказать? – спросила я, хотя прекрасно ее поняла.
– Сестра Клер объявила, что ученицы дают «великий обет молчания». Она глава школы, это в ее компетенции, и я не решаюсь его запретить. – Мать Мария вздохнула и задумчиво произнесла: – Может быть, это разумно. Может, порядок и дисциплина – это все, на что остается надеяться. – (За все годы, что я провела в С***, великий обет молчания вводился лишь дважды: когда в монастыре попросили убежища несколько монахов и когда понадобилось остановить девичий переполох, вызванный тем, что сразу у трех воспитанниц в первый раз произошли обычные месячные.) – Но вот что пугает меня, – продолжила мать-настоятельница. – Она пользуется обетом, чтобы взбудоражить девиц, взять еще большую власть над ними, а затем ловить рыбу в мутной воде, используя их в своих целях.
– А что у нее за цели? – спросила я.
Мать Мария пристально на меня посмотрела:
– Разве ты сама не слышала ее в минуту откровенности? Она давно жаждет прибрать к рукам весь монастырь. Как же она выразилась? Ах да: «Я давно ожидала вашего падения».
– Но разве не можете вы?..
– Я не могу приказать девочкам не молиться, в равной степени я не могу приказать Клер воздержаться от полных суеверия разглагольствований о силах тьмы и тому подобном.
– Так они совсем ничего не знают? Ни о том, что на подоконнике они видели Перонетту, ни о том, что именно я…
– Разве я не говорила тебе, – вскричала мать Мария, – что она шальная, что потворствовать ей опасно? Говорила ведь, говорила! Как было глупо надеяться, что ты сумеешь удержать ее в узде! Этого не может никто. А теперь пришло трудное время. Монастырь уплывает у меня из рук. Если произойдет худшее, куда мне деваться? Запомни мои слова: пришло трудное время.
Затем мать Мария велела мне следовать за нею в главный монастырский корпус.
– Ты не должна оставаться здесь, на отшибе, вдали от меня. Ступай к остальным, словно ничего не случилось, – посоветовала, а может, приказала она.
Я согласилась, сказав, что так и сделаю. Разве я могла не послушаться ее? Ведь я ей столь многим обязана. Затем, согнувшись под одним зонтом, мы отправились в обратный путь, и лишь тусклый свет луны, едва пробивавшийся через разрывы туч, освещал покрытую лужами дорожку, по которой мы шли.
Но когда мы уже приблизились к монастырскому огороду, решимость моя начала улетучиваться, а к тому времени, когда я вошла собственно в монастырское здание, пропала совсем, и я остановилась, не зная, где отыскать силы, чтобы, сделав еще несколько шагов, войти в трапезную и сесть посреди прочих воспитанниц.
В трапезной все молчали, следуя распоряжению сестры Клер. Наша Мария-Эдита и помогавшая ей сестра Бригитта только что закончили расставлять по столам тарелки с едой. Мать Мария ввела меня в залу.
Войдя, мы остановились у боковой двери, ведущей в кухню. Сначала нас никто не заметил, затем под покровом великого обета молчания по скамьям невидимо пронеслась волна шиканья и шепотков, и все повернулись к нам; никто не встал, как надлежало делать в присутствии матери-настоятельницы, но я не заметила этого, так сильно была увлечена собственными переживаниями и осознанием неловкости своего положения. Я стояла перед собравшимися к ужину девицами, напуганная, грязная, и все равно пыталась сделать вид, что ничего особенного не произошло. Странную же я, должно быть, являла собой картину! Скорее всего походила на сестру того печального-препечального монстра, которого изобразила в своей книге писательница Мэри Шелли.
– Пожалуй, то была не самая лучшая мысль, – шепнула я матери Марии, пытаясь обойти ее, чтобы юркнуть в кухню.
Но мать Мария перехватила меня.
– Иди, – проговорила она, подталкивая меня вперед. Не успела я сделать и двух шагов, как услышала позади негромкий хлопок двери: мать Мария ушла, оставив меня одну. Такого я не ожидала. Когда я шла между рядами столов, девицы осыпали меня со своих мест проклятиями или читали молитвы, неотличимые от проклятий. Некоторые призывали Царя Небесного, другие – и я поразилась, что их так много, – обращались непосредственно к помощи «князя мира сего». Сестра Паулина без слов, одним постукиванием деревянной ложки, попыталась напомнить девицам о великом обете.
Несколько младших девочек, не смея прикоснуться к стоящим перед ними тарелкам с остывающим рагу, так быстро читали молитву за молитвой, сопровождая каждую перебиранием очередной деревянной бусинки на четках, что казалось, от них вот-вот пойдет дым. Я двигалась вперед словно глухая и слепая, будто что-то незримо влекло меня к моему месту. Мне чудилось, я иду погруженная в воду: каждый шаг медлен, осторожен, труден.
Кто-то бросил в меня золотую ладанку; она упала на пол у самых моих ног и заскользила дальше по гладкому полу. Конечно, такое отторжение святого предмета и то, что он отскочил в сторону от меня, тут же истолковали как доказательство моей одержимости бесами. Послышались охи, кто-то принялся молить о спасении на почти нечленораздельной латыни.