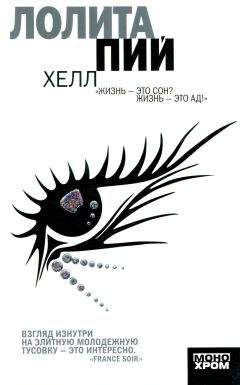Все в шоке. Я могу удалиться.
— Господа…
Я встаю.
— Но Дерек…
Оскар мне глубоко симпатичен, но нечего ему этим пользоваться и меня доставать, иначе не обрадуется. У меня иногда получается ценить людей, но не до такой же степени.
— Знаешь, Оскар, кроме прохладных чувств, между нами никогда ничего не будет.
— Что, Дерек? Я хочу сказать… Что ты решил наконец, Total Fina Elf или Texaco?
К сожалению, Оскар, таковы по большей части отношения между людьми, прохлада, прохлада, прохлада, что угодно, только не рискованное вложение чувств… Что-что? А, ээ, ну да, Total или Texaco? А как по-твоему, Оскар?
— Ну-у… Texaco?
— Ну вот! Великие, те, кто принимает решения, изъясняются порой языком загадок, а тебе за то и платят, чтобы ты разгадывал его и доносил до простых людей.
Я удаляюсь, и присутствующие могут убедиться в том, что на мне протертые джинсы, а на белой футболке, изготовленной специально для такого случая, Стефано Габбана собственными ручками с изысканным маникюром вышил черным: «а еще я на вас клал». Это ребячество, знаю, но что поделаешь, если я глупый и злой?
После ланча у Дюкасса в «Плазе», состоящего главным образом из крабового мусса, фуа-гра с белыми трюфелями и пюре с икрой под «Кристаль Розе» — ни кофе, ни десерта, немножко здоровой диетической пищи, — с Леонардо, который лезет на стенку, потому что должен обеспечить три рекламных кампании одновременно, а ему хочется к себе в номер, часами скакать по кровати с корешами и смотреть баскетбол по американскому кабельному каналу, я наконец сбрасываю с себя тяжкие обязанности продюсера блокбастеров и властелина мира и могу заняться новой игрушкой: операцией «убиение невинной».
Я настоятельно посоветовал Жоржу II доставить объект ровно в половине третьего точно на перекресток улиц Монтеня и Франциска I.
Там я и поджидаю, инкогнито, в «мерседесе» S-класса с тонированными стеклами, который вожу сам. На объекте то же платье, что вчера вечером, и сказать, что прохожие на нее оборачиваются, значит не сказать ничего, нужно признать, что у платья жестокое декольте, а у Манон — раз уж речь о Манон — совершенно неповторимая манера шагать по тротуару. Она входит в двери «Шанель», я проскальзываю следом, я неузнаваем в весьма старомодном плаще «Барбери» и очках-маске от Ива Сен-Лорана, которые, как явствует из названия, закрывают большую часть лица. Продавщицы, которых еще утром предупредил сосланный в Милан, но по-прежнему эффективный Мирко, суетятся вокруг объекта; нужно признать, что мы описали ее хоть и кратко, но точно: молодая, вульгарная и в красном, и особо подчеркнули, что в девицу вложено не менее двадцати тысяч евро в крупных купюрах. Так что первый этап игры под названием «релукинг Манон» проходит в оптимальных условиях, и я, укрывшись за русской газетой, убеждаюсь, что ножки протягивают именно по одежке: Манон, вертящуюся перед зеркалами в малоприличных платьях под ядовитые восторги надменных продавщиц, не отличить от богатой наследницы или юной итальянской старлетки. Манон краснеет, Манон говорит:
— Мама все время рассказывала мне про «Шанель».
— О, ей обязательно нужно к нам зайти.
— Она… умерла.
— Не страшно, мы ей сделаем тридцатипроцентную скидку.
Еще немного, и я бы влепил пощечину этой продавщице, но меня умиляет вид Манон, чье счастье априори зависит от пары ярких платьев. Я допиваю кофе из термоса, и микрофонщик берет его у меня из рук, сообщая, что отправит его в урну, и умоляет снять солнечные очки, и я спрашиваю себя, во-первых, откуда тут микрофонщик, во-вторых, почему он называет меня «господин Делано», а в-третьих, я сниму солнечные очки, когда сам пожелаю. А потом, решив, что дело явно нечисто, вскакиваю и гонюсь за наглым микрофонщиком.
На улице солнце жарит так, словно и не февраль на дворе, и я теряю добычу из виду. А потом не узнаю авеню Монтень, привычная декорация перестает быть привычной, вокруг ни души, а посетители на «Террасе Монтень», весьма приблизительно напоминающие посетителей «Террасы», молчат, и я с некоторым беспокойством замечаю, что на тарелках у них, судя по всему, одно и то же. Я стою один перед магазином «Шанель», в растерянности и в плаще, и что-то внутри меня зовет на помощь, но никто не откликается.
— Четырнадцать часов тридцать минут. На шикарном проспекте в Восьмом округе Парижа Дерек Делано со своей подружкой предаются оголтелому шопингу: цена вечера — не одна тысяча евро.
— И всего-то, цыпочка, тысяч двадцать! Кто говорит?
— Но это лишь капля в море по сравнению с громадным состоянием Дерека, которое он унаследовал от отца, Хавьера Делано. Этот аргентинец из хорошей семьи, бывший чемпион по поло, разбогател вначале на поставках оружия южноамериканским, африканским и восточноевропейским повстанцам, затем молодой авантюрист, обманом выкупив в семидесятых многочисленные нефтяные скважины в Венесуэле, вошел в число самых богатых людей мира… но история на этом не кончается…
Голос доносится из белого фургончика, но стоит мне поравняться с ним, как голос умолкает, дверцы хлопают, и вот уже фургон отъезжает, а поскольку все это мне совсем не нравится, я прыгаю в свой «S-класс» и бросаюсь в погоню, проклиная себя за то, что не взял «феррари». Я еду на ста двадцати по встречной полосе, фургончик от меня не больше чем в тридцати метрах, и тут я вижу, что прямо перед Рон-Пуэн улица перекрыта, думаю, ага, попались, но они проскакивают словно по волшебству и скрываются в хаосе клаксонов, ругательств и налезающих друг на друга тачек. Пытаюсь ехать за ними, но на пути вырастает полицейский:
— Месье, проезда нет.
— Как? Почему? Что тут за бардак?
— Проезда нет. Разворачивайтесь.
— То есть как «разворачивайтесь»?
— Разворачивайтесь, месье.
Я сдаюсь.
Манон поджидала меня в отеле, сидя на подлокотнике канапе, словно в гостях. Пакеты лежали ровно посередине гостиной. Она была все в том же красном платье и показалась мне странно привычной, словно вышедшей из старого кошмара. Нога на ногу, одна рука на ляжке, другая свисает, уткнулась лицом в торчащее плечо и с мученическим видом уставилась на паркет.
Я: Все в порядке?
ОНА: Да.
Я: По виду не скажешь.
ОНА: Вообще-то…
Я: Да?
ОНА: Нет, не все в порядке.
Я: А!
ОНА: То есть?
Я: Ну вот, приехали.
ОНА: Что ты хочешь, Дерек?
— Что ты хочешь… сказать?
— Я хочу сказать… Что между нами?
— Ну, метра два и ээ… твое платье.
— Я не это хочу сказать.
— Так объясни, цыпочка.
— Именно что я-тебе-не-цыпочка.
— А?
— Утром я проснулась, тебя не было, вошла горничная с подносом, там были круассаны, и апельсиновый сок, и даже яичница с беконом, и она сказала, чтобы я кушала побыстрей…
— Ох, пожалуйста, цыпочка, не говори «кушала».
— Какая разница, все равно я не смогла проглотить ни кусочка.
— Не любишь яичницу с беконом?
— Потом мне надо было принять душ и одеваться, потому что в два часа твой… шофер ждал внизу, чтобы везти меня по магазинам, и я поехала, как идиотка…
— Ты не идиотка, цыпочка.
— Нет, я не идиотка и тем не менее ничего не понимаю. Твой шофер…
— Жорж. Его зовут Жорж. Прояви уважение.
— Он даже не позволил мне пойти на работу…
— Работа! Какое некрасивое слово, цыпочка.
— То есть как некрасивое слово? Но ведь, Дерек, мне нужно работать, чтобы жить…
— «Жить» тоже некрасивое слово.
Она вздыхает.
— А что, есть слова красивее? — спрашивает она с каким-то смиренным отчаянием, немного напомнившим мне Жюли.
— Манон. Есть слово «Манон».
— Я совершенно запуталась, Дерек.
— Тебе больше не нужно работать, цыпочка. Теперь ты со мной.
— Что ты хочешь, Дерек?
— Я влюблен в тебя, цыпочка. Ничего не могу с собой поделать: вчера ты появилась в моем поле зрения, когда пускали Carmina Вurаnа.
Она смотрит недоверчиво, и я понимаю, что надо выглядеть поубедительней.
— По ночам, — начинаю я, сам не зная, куда меня вывезет, — я не сплю. Ты не знаешь, что это такое: одиночество, тишина, влажный жар в сотый раз перевернутых подушек, и сторожишь звук шагов за окном, звук мотора, отголосок разговора, отблеск фар, и муки прошлого, и страх перед будущим, что оно будет как прошлое, а потом белесая заря на шторах, и эти чертовы птицы, они все-таки поют, и суметь наконец закрыть глаза, и забыть… что мне чего-то не хватает. Аэропорты на заре, темные очки и омерзительный кофе, прилеты, вылеты, вылеты, прилеты, чтобы забыть, что я лечу в никуда, нестерпимый порядок гостиничных номеров и «добро пожаловать» на телеэкране, шоколадки и пузырьки с шампунем и кондиционером, бумажные крышки на стаканах с апельсиновым соком, все это шатанье по барам, люди проходят, а я остаюсь. И тогда уезжать самому, дороги, считать мачты электропередач, километры, белые полосы мелькают, менять диски, музыка сёрф, Леонард Коэн и Мэрилин Мэнсон в Лос-Анджелесе, местные сборники на Ибице, на Лазурном берегу Манчини, Синатра, Легран, а в Париже только Шопен, но везде одна и та же песня и мне чего-то не хватает. Стандартные улыбки малолеток-моделей, один и тот же вздор, только с разным акцентом, в прошлом году верхнюю губу нужно было иметь приподнятую, чтобы виднелись два передних зуба, как у Эстеллы Уоррен, и девицы, с которыми я целовался, все как одна носили брекеты, Нобу изобрел суши из темпуры, но это всего лишь темпура в суши, и ничего другого, и пришлось открывать Nobu Next Door, потому что весь Нью-Йорк их хотел, а весь Нью-Йорк не поместится в одном Nobu, я пытался играть на рояле, а потом бросил, слишком поздно, не знаю точно, как это я попал из слишком рано в слишком поздно, прежде было слишком рано ходить в казино, а теперь слишком поздно учиться на рояле, а что посередине? Отец умер, я унаследовал состояние, мне исполнился двадцать один год, я пошел в казино и проиграл несколько миллионов, я бы предпочел рояль, но вместо этого научился сворачивать идеальные косяки и ширяться вместе с Жюли. В те времена все жили на авеню Фоша в Париже и в самых престижных кварталах Нью-Йорка, еще можно было курить во время долгих перелетов, только что вышел «Nevermind», Nirvana была в моде, а потом устарела, а потом стала культовой, всем хотелось умереть рано и стать легендой, я говорил, что ненавижу отца, Жюли носила прическу как у Умы Турман в «Криминальном чтиве», суши и мобильники были уделом элиты, и мы гордились, что к ней принадлежим, на фотографиях тех лет у меня светятся глаза, я уже тогда плохо спал, но ходил в ночные клубы, и глотал кислоту и стилнокс, и вместо одной Жюли видел у себя в постели целую дюжину, и ведущий «Сумеречной зоны» вылезал из телевизора, и, наверное, я был счастлив. На самом деле мне просто было двадцать. А потом Жюли стала легендой. В тот год черное было в моде, и на ее похоронах была куча народу, и все только и делали, что обменивались номерами телефона, а я ждал чуда, но чуда все не было.