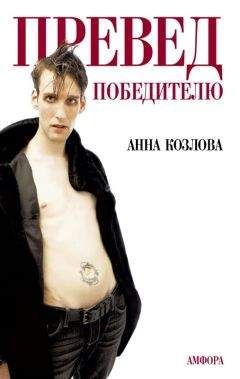И вот в то роковое утро, когда я одиноко пьянствовала в сьюте и, подходя время от времени к окну, смотрела на редкие машины, которые ползли под игом полуденного зноя, как разноцветные черепахи, моя сестра успешно приземлилась в аэропорту Дубая и судорожно копалась в своей сумке, надеясь найти бумажку с моим адресом в Дейре. Надо сказать, что в те времена я вспоминала Россию чаще, чем когда-либо в своей чудовищной жизни. Постоянно освежая стакан с виски и названивая в room service с требованием принести льда, я думала о мужчинах, с которыми у меня ни хрена не получилось, о моих подругах, с которыми мы когда-то всерьез надеялись выйти замуж и завести детей, о маме и папе, решительно выдворивших меня из своей истерзанной памяти. Я скучала по моей сестре, даже точно не зная, в какой точке этого гребаного земного шара она сейчас находится.
Последний раз я видела ее три года назад. Мы сидели в баре «Пони-гей» в Санкт-Петербурге, и она, бесконечно куря и накачиваясь дешевым пивом, рассказывала мне о каких-то неграх из города Бамбундия (страны, где находился этот славный город, я не запомнила), с которыми она переписывалась по Интернету.
— Самый перспективный из них всех — это Макакис, — сказала она со смехом, — остальные, как они пишут, не имеют работы и танцуют рок-н-ролл на песке. — Она вздохнула. — У Макакиса лишь один недостаток, но серьезный — он подорвался на противопехотной мине и не имеет ног.
— Зачем тебе это надо? — спросила я (моя сестра рассказала мне, что Макакис ездит на каталке по тростниковой плантации и ловко подрезает тростники под корень). — Ты что, хочешь собирать сахарный тростник, помогая Макакису?
— Ты права, — согласилась она, — еще не хватало, чтобы под конец жизни меня хлестали кнутами какие-то долбаные ниггеры.
Так и не посетив Бамбундию, моя сестра отправилась в Лондон, где какое-то время очень успешно подпольно торговала алкоголем, привезенным из французского порта через Ла-Манш. Мы созванивались, и на мой вопрос, хороша ли жизнь в Лондоне, она всегда отвечала: «Знаешь, хуже, чем в России, мне не было нигде».
Когда в дверь позвонили, я мысленно предположила, что Дауда наконец выгнали с работы, и, слегка покачиваясь, пошла открывать. На пороге стояла моя сестра, одетая в китайский розовый костюм, который был ей мал; в руках она держала пакеты с аналогичными вещами, из чего я сделала вывод о гипертрофированной нищете, не позволившей ей даже приобрести чемодан.
— Как ты меня нашла? — спросила я.
— Ты знаешь, — моя сестра вошла в сьют и с любопытством разглядывала обстановку, — за последнее время я настолько охуела, что нашла бы, наверное, даже Яшара (она имела в виду курда-наркоторговца, с которым я сожительствовала в Турции).
Я засмеялась, а она спросила, есть ли у меня что-нибудь поесть.
Мы заказали еду из ливанского ресторана, и моя сестра, не евшая, судя по всему, больше суток, рассказала, как познакомилась в Софии с какими-то румынами, которые в финале этого знакомства затащили ее в подвал и насиловали два дня.
— Это был ад, — говорила она с набитым ртом, — они меня трахали, и еще десять человек на это смотрели. Заставляли три часа стоять раком и служить им столом, конечно, тушили об меня сигареты, но знаешь, — она закурила, как бы демонстрируя этим, что румынам не удалось ее сломить, — я считаю, в таких случаях лучше просто молчать. Ты спишь с каким-то арабом? — спросила она потом.
— А с кем я могу спать, живя здесь? — искренне удивилась я.
— У меня в Англии был один араб, — моя сестра располагала бессчетным количеством вариативных историй, которые роднила лишь их исключительная непристойность, — Салем — очень красивый.
За время жизни с Даудом я настолько свыклась с вербальными мерзостями, что в какой-то момент утратила веру в то, что люди могут говорить о чем-то другом, кроме секса и различных его последствий. Заметив, что я с удовольствием внимаю очередной похабщине, моя сестра приободрилась и продолжила свой рассказ, закончившийся тем, что она изменила Салему с негром и он, застукав их («Негр, разумеется, сразу убежал», — сказала моя сестра), хлестал ее ремнем в течение часа, потом разбил ей челюсть, а после этого ушел и вызвал «скорую».
— Так что слава богу, — сказала она. — Знаешь, с тех пор я не люблю сложные замки. Лучше, когда дверь открывается просто и наружу. Если бы у Салема была такая дверь, я бы, конечно, убежала, а так — вот что вышло.
— Что ты собираешься делать в Дейре? — спросила я, когда мы сожрали все, что принесли из ресторана, и сидели в dinings[2] за новой бутылкой виски.
— Найди мне богатого мужика, — ответила моя сестра, очевидно пытаясь до поры скрыть от меня свои планы.
Я задумалась о том, кто из наших общих с Даудом знакомых может гипотетически клюнуть на малоаппетитную наживку в образе жирной немолодой бабы с расхреначенной челюстью, без копья и в тесном костюме из розового китайского шелка. Первым мне на ум пришел некто Роберт — человек, по сравнению с которым даже Дауд мог показаться Аристотелем. Этот Роберт держал относительно пристойный тайский ресторан и неплохо изъяснялся по-русски, потому как часто имел дело с русскими проститутками (проблема была ведь еще и в том, что, основательно поколесив по свету, моя сестра так и не научилась говорить ни на одном из доступных человечеству языков). Затем я подумала о Гасане — это был сексуально озабоченный карлик, который завел семью, родил двоих детей, но вместо того чтобы растить их и холить, переехал жить к узбечке, работавшей на ресепшен в дубайском отеле.
Разумеется, моя порочная мысль все больше клонилась к Гасану, как осенняя трава клонится под желтым взглядом ветра, ибо если в Роберте можно было заподозрить хотя бы некую минимальную требовательность к женщине, то сам факт непотребного сожительства с узбечкой однозначно отрицал ее в Гасане. Тем не менее я была не слишком уверена в осуществимости обоих вариантов, так как не знала, как Дауд посмотрит на то, что я разоряю его друзей. Это казалось смешным, но даже тогда, в те страшные времена, когда я выпивала четыре бутылки виски в день, я не могла не замечать того, что многие вопиюще бессмысленные и даже вредные явления странно упорствуют в своем существовании. Вследствие этого неоспоримого факта я не могла исключать возможность того, что Дауд обидится, а то и разозлится на меня, попав под влияние такого умозрительного понятия, как дружба. Находясь в пьяном бреду круглые сутки, не помня наутро, сколько раз Дауд меня трахнул, я все же сознавала, что ни хрена не значу для Господа, проецировавшего свою непостижимую волю в мир, что не могу и никогда, наверное, не смогу понять, по каким законам, каким паутинным хитросплетением человеческих желаний движется этот мир и какую новую, не поддающуюся описанию мерзость принесет мне новый день, который я, безусловно, встречу, так и не проснувшись за то время, пока Дауд будет дрочить, глядя, как я сплю.
Конечно, я не поделилась со своей сестрой соображениями такого рода по той лишь причине, что давно убедилась в бессмысленности каких бы то ни было откровений даже с самыми близкими людьми.
— Я не могу тебе ничего посоветовать, — сказала я, воображая себя невероятно дипломатичной, — но я могу спросить Дауда.
— Это его хата? — быстро сообразила моя сестра.
— Да, — сказала я, — но, если его выгонят с работы, мы вылетим отсюда пробкой.
— А как он? — поинтересовалась она после небольшой паузы, в течение которой мы наполнили стаканы виски и моими замороженными слезами.
— Я никогда не встречала человека такой тупости, — честно ответила я. — Одновременно с этим я не могу сказать, что он бог в постели, потому что с таким хреном даже самое последнее ничтожество (каким, собственно, и является Дауд) будет в постели богом.
Я уже успела обратить внимание на то, что моя сестра порядочно нажралась и, судя по всему, не собиралась останавливаться на достигнутом, — сделав вид, что у меня зачесался глаз, я взглянула на часы и с ужасом поняла, что еще нет даже трех часов, а мы уже находимся в абсолютно непотребном состоянии и собираемся только усугублять его.
— Он лижет? — Моя сестра крайне скверно улыбнулась и откинулась на диванные подушки.
— Еще как, — ответила я.
— Знаешь, — сказала она, — в мужчинах, которые этого не делают, я вижу какую-то неполноценность.
— С такими мужчинами я просто не сплю, — сказала я.
— Как вы познакомились? — спросила она, закуривая новую сигарету и разглядывая свои пальцы с неровно обгрызенными ногтями.
— В аэропорту, — коротко ответила я.
На самом деле с Даудом меня свела Люба.
Это случилось почти два года назад, когда я только приехала в Дейру и устроилась в ночной клуб (в действительности он был замаскированным борделем) исполнять перед тысячей арабов танец живота с полной консумацией. Люба была совладелицей этого симпатичного местечка, именовавшегося, если я не ошибаюсь, Jela — по-арабски это слово обозначало какую-то непристойность в женщине. Потренировавшись пару дней под Любиным наблюдением, я стала звездой борделя, так как в юности занималась спортивной гимнастикой и даже сохранила навыки шпагата, на который я в финале представления садилась абсолютно голой. Я танцевала три раза в неделю под занавес, и за это мне платили три тысячи долларов. Люба отнеслась к моей непотребной деятельности очень тепло (в конечном счете мы на всю жизнь остались подругами) и, поскольку я еще не совсем освоилась в Дейре, пригласила пожить первое время в ее сьюте, который она делила с шестидесятипятилетним мужем-алкашом, делавшим, в свою очередь, неплохие деньги на туризме.