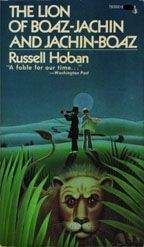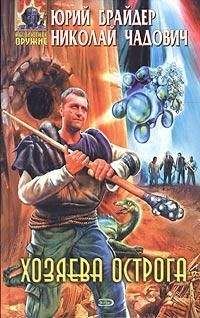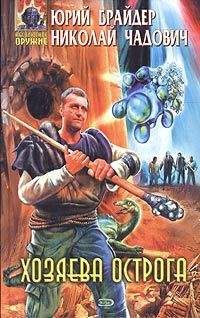И он увидел ответ — пустыня цвета львиной шкуры, поющий зной, слепящее когтистое солнце, солнце льва, золотая его ярость и — тьма.
— Лев, — снова заговорил Иахин–Воаз, пораженный видением. Присутствие льва принижало, говорить было трудно. — Лев, — сказал он, — что я, чтобы говорить перед тобой? Ты царь среди львов, я вижу это очами. Я — не царь над людьми. Я не ровня тебе. — Пока он говорил, он смотрел в глаза льву, видел его лапы, хвост, не выпуская из виду будку и тихонько подвигаясь к ней.
— Но это ты, лев, высмотрел меня, — продолжал он. — Я не искал тебя. — Он сделал паузу, услышав эти свои слова. Лев пришел из вращающейся темноты колеса. Не вошел ли в эту темноту он, Иахин–Воаз, вооруженный одной своей картой?
Небо быстро светлело. Как и в то первое утро, над головой пролетела ворона и с карканьем уселась на трубу. Быть может, это была та же самая ворона. Иахин–Воаз подумал о той тьме, из которой вышел лев, захотел закрыть глаза и ступить в нее, но побоялся.
Перед его глазами возникли большие буквы, из которых сложились слова, сильные, вселяющие веру и почтение, словно то было изречение бога:
ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА ПРЕД ЛИЦЕМ ЛЬВА
Он как во сне чувствовал скрытое значение этих слов, которые застыли в нем, словно высеченные в камне.
И Иахин–Воаз закрыл глаза свои, и почувствовал растущую внутри тьму, и ощутил в себе ее вращение, и положился на нескончаемое ее движение. В своем сознании он увидел солнечный свет, яркие цветные узоры, испещренные падающим сверху золотом, солнечным светом, как на восточных коврах.
Он с улыбкой вспомнил о тьме. Да, думал он, удобно расположившись в лучах солнца, она всегда вращается. Всегда в одном направлении. Назад хода нет. Но тьма пробивалась сквозь солнечный свет, извивалась, слепя ужасом. Всегда в одном направлении. Назад хода нет. Я перестану существовать в любой миг, ужасался Иахин–Воаз. Мира больше нет. И нет больше меня.
Он выпал в черноту, опустился на самое дно вод времени, зарылся в первобытный зеленый ил и соль, увидел пробивающийся сквозь тростники зеленый свет. Быть. Продолжай. Верить в бытие. Он покоился там, усмирив свой разум и ожидая восхождения.
Оттуда, из зеленого света и соли, он поднялся и открыл глаза. Лев не шевелился.
— Господин мой Лев, — воззвал Иахин–Воаз. — Я верю в бытие. Я верую в тебя. Я страшусь тебя и счастлив, что ты существуешь. С почтением говорю я с тобой, и что я, чтобы говорить перед тобой?
Имя мое — Иахин–Воаз, торговец картами, изготовитель карт. Имя отца моего — Воаз–Иахин, что торговал картами до меня. Имя сына моего — Воаз–Иахин, и сего я оставил в лавке вместо себя. Думаю, он недолюбливает карты, а с ними — и меня.
Кто я? Мой отец лежал в гробу, и его борода торчала словно дуло. Когда он был жив, он хвалил меня и ожидал от меня многого. С раннего детства я рисовал четкие и прекрасные карты, и восхищались ими. Мои родители ждали великих дел от меня. И для меня. Великих дел для меня. И я, конечно, желал их для себя тоже. — Иахин–Воаз почувствовал, как горло его напрягается — в нем рос, формировался, рвался болью высокий звук, бессловесная мольба. — Аааааааааааааааа! — издал он его, голый жаждущий звук. Уши льва насторожились.
— Они хотели, — выговорил Иахин–Воаз. — Я хотел. Два хотения. Не одно. Нет. Два.
Лев тихонько подползал к нему, не отрывая горящих зеленых глаз от его лица.
— Как звучит не–хотение, владыка мой Лев?
Лев встал на лапы и заревел. Звук заполнил всю улицу, подобно паводку, реке звука, окрашенного в львиный цвет. Из своего времени, с выжженных равнин, и ловушки, и падения в нее, и кусочка синего неба высоко над головой, из своей смерти на копьях, на сухом ветру, дующем по направлению к вращающимся темнотам и огням, к утреннему свету над городом и над рекой с ее мостами, лев посылал свой рев.
Иахин–Воаз плыл по реке этого звука, шел по долине его и дошел до льва и его глаз, янтарных в утреннем свете.
— Лев, — произнес он. — Брат Лев! Лев Воаз–Иахинов, священный гнев сына моего и золотая его ярость! Но ты больше этого. Ты — мой и моего утраченного сына, и ты — моего отца и меня, утраченного для него навеки. Ты — всех нас, Лев. — Он подошел слишком близко, вперед метнулась тяжкая когтистая лапа и ударила его по бедру. Он отлетел вправо, где находилась телефонная будка, и моментально оказался внутри нее, лихорадочно запирая дверь и ожидая звона стекла, тяжелой лапы с ее когтями и раскрытых челюстей смерти. Он потерял сознание.
Когда разум вернулся к Иахин–Воазу, светило солнце. Его левая рука страшно болела. Пропитанный кровью рукав висел на одних нитях, рука была в крови, пол будки был весь залит ею. Кровь все еще текла из длинных глубоких царапин, оставленных львиными когтями. Попало и его часам: разбитые, они застыли на половине шестого.
Он открыл дверь. Лев исчез. На улице было еще мало народа, автобусная остановка была пуста. Должно быть, еще раннее утро, думал он, ковыляя к дому и оставляя за собой капельки крови.
Он хотел сказать льву о колесе и только теперь осознал, что у него совсем выскочило это из головы.
Вечер застал Воаз–Иахина на дороге. В том городке, где он останавливался последний раз, ему удалось заработать немного денег: он спел под гитару, купил немного хлеба с сыром и поспал на площади. Можно идти и ночью, решил он, сидя на скамье и глядя на звезды.
Сейчас он утомился, к тому же сумерки казались длиннее, чем ночь. Вечно — дорога, говорили сумерки. Вечно угасает день. Мимо по вечерней дороге, под темнеющим небом, проносились огни машин, и от их вида горло Воаз–Иахина сдавливало. Вспоминался ему дом, где он спал каждую ночь, отец с матерью.
Рядом притормозил старый потрепанный фургон, от которого несло запахами солярки и фермы. За рулем был молодой мужчина с грубым небритым лицом, косоглазый. Он высунулся из окна, оглядел футляр от гитары, Воаз–Иахина, прочистил горло и осведомился:
— Знаешь какие‑нибудь старые песни?
— Какие именно? — спросил Воаз–Иахин.
-- «Колодец», например? — сказал фермер и фальшиво напел мотив. — Там еще о девчонке, который ждет своего хахаля у колодца, а тот не приходит. Старуха на площади ее спрашивает, сколько раз удастся ей наполнить свой кувшин, и девчонка улыбается и отвечает, что он не наполнится до той поры, пока она не увидит улыбку милого…
— Я знаю ее, — подхватил Воаз–Иахин и запел припев:
Глаза, как маслины,
Черней не найдешь.
Сладки поцелуи.
Сладка его ложь.
Глубок тот колодец,
И дна не видать.
Кто поцелуй подарит завтра,
Никто не может знать.[1]— Точно, — обрадованно подтвердил фермер. — А «Апельсиновую рощу» знаешь?
— Да, и ее.
— Ты куда едешь? — спросил фермер.
— В порт.
— Я тебя туда в другой день отвезу. Хочешь деньжонок подзаработать? А потом я тебя подброшу.
— А что я должен делать? — спросил Воаз–Иахин.
— Поиграешь для моего отца, — объяснил фермер. — Споешь ему. Он кончается.
Он открыл дверь, Воаз–Иахин сел, и они тронулись.
— Его трактор переехал, разворотил всего, — сказал фермер. — Он‑то, видать, остановился на уклоне, забыл воткнуть ручник и зашел проверить зацеп у бороны, а трактор возьми и покатись на него. Всего подавил. Колесо прямо по нему прокатилось, половину ребер переломало, легкое разорвано. Он пролежал очень долго с внутренним кровотечением, пока не надумали его искать. Сам виноват, черт его подери, — продолжал он. — Никогда не знаешь, что он еще выкинет. Ну и ладно. Так оно и вышло. Пускай послушает песни, что певал Бенджамин, а потом помрет, и все закончится. Сейчас‑то он говорить не может, видишь ли. Он и дышит‑то еле–еле. Правая рука вообще не движется. А левой рукой, одним пальцем, пишет на столе имя — Бенджамин. Ну уж Бенджамина я предъявить ему не смогу. Вот я и решил, что пусть хоть песни послушает. Может, он разницы и не почует. Сукин сын. — Он стал всхлипывать.
Мой второй плачущий водитель, подумал Воаз–Иахин.
— А кто этот Бенджамин? — спросил он.
— Мой брат, — ответил фермер. — Десять лет назад ушел из дома. Ему было шестнадцать тогда. С тех пор ни слуху, ни духу.
Он свернул на ухабистую грунтовую дорогу. Свет фар скакал по камням, по яминам, в окна врывался стрекот сверчков. По обеим сторонам были пастбища, дорогу усеивали коровьи лепешки, в воздухе стоял коровий дух. Жидкую травку, бледную в свете фар, похоже, вытаптывали и выщипывали последовательно и планомерно.
Тряска не прекратилась до тех пор, пока впереди не показались освещенные окна. Фургон въехал в раскрытые ворота и остановился рядом с сараем, крытым ржавым металлом. Позади него был хлев, сбоку — дом. Дом был угловатый и неприглядный, сложенный из цементных блоков, с черепичной крышей. В освещенном дверном проеме чернела грузная женская фигура.