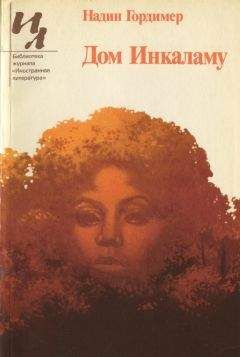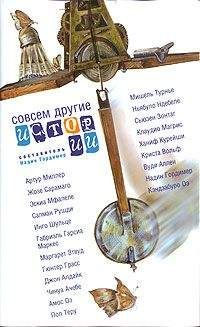стебельки вьющегося растения. Увидев сидящего в спортивной машине человека в черной накидке и с длинными, словно у кота, усищами торчком, Мэтт встрепенулся:
— Боже, да я его чуть не месяц стараюсь подловить!
Он нырнул в людскую гущу, Клайв — за ним. Зигзагами пробирались они сквозь толпу зрителей, обступивших площадку, где играли в шары. Человеку в накидке каким-то образом удалось въехать на своей маленькой спортивной машине прямо на площадь: это было запрещено; но как ни кричал на него полицейский (работал он только раз в неделю — по субботам, во второй половине дня), спуститься с площади усачу никак не удавалось: стоило ему найти какой-то просвет, как он тотчас же заполнялся все прибывающей толпой.
— Он художник,— объяснил Мэтт.— Живет над сапожной мастерской — дыра такая, ты знаешь где это. На свет божий вылезает только по субботам и воскресеньям. Не вредно бы сделать с него парочку хороших снимков. Похоже, он из тех, кто потом становятся знаменитыми. Форменный псих, а?
С художником была девушка, одетая под Шерлока Холмса: мужской костюм из твида, войлочная шляпа.
— Машина, наверно, ее,— решил Мэтт.— Пока он еще не прославился, но я могу и подождать.— Он извел на усатого почти целую пленку.— Когда имеешь дело с современным художником, снимать надо в необычных ракурсах.
Сегодня Мэтт был особенно разговорчив, даже зашел в бар Зизи — поздоровался с ее мужем, Эмилем. Семья Клайва все еще сидела в пирожковой; отец поманил Клайва, но тот притворился, будто не видит. Потом все-таки зашел, пробрался между столиками.
— Да?
— Тебе денег не нужно?
Но прежде чем Клайв успел ответить, Мэтт стал отчаянно сигналить ему большим пальцем: «Давай сюда!» Клайв рванулся к нему, но его остановил голос отца:
— Клайв!
А Мэтт уже бежал к ним во весь дух:
— Там — женщина — сейчас — шмякнулась — то или в об-
мороке — то ли умерла — то ли еще что. Бежим скорей!
— А зачем?— спросила мать Клайва.
— Господи помилуй,— сказала Дженни.
Но Клайв бросился вслед за Мэттом. Они энергично работали локтями, проталкиваясь к спуску с площади, где на расчистившемся кусочке мостовой лежала толстая женщина. Платье ее задралось, изо рта шла пена. Прохожие оживленно спорили между собой, чем ей помочь, то и дело кто-нибудь пробкой выскакивал из толпы и подбегал к ней. Одни пробовали ее поднять, другие — те, кто считал, что двигать ее нельзя,— их оттаскивали. Кто-то снял с нее туфли. Еще кто-то сбегал за водой в ресторан Ше Риан, но пить она не могла. Как-то на днях мальчики заметили рабочего в синем комбинезоне и измазанных цементом башмаках — он храпел у старой водоразборной колонки возле бара «Табак», где обычно пьют мужчины. Мэтт и его щелкнул: ведь спящего, если уж очень понадобится, всегда можно выдать за покойника. Но этот снимок будет еще похлеще. Мэтт доснял остаток той пленки, которую почти целиком извел на усатого художника, и успел заложить новую, а женщина все лежала; но вот, перекрывая шум толпы и громкую музыку, послышался длинный, с перепадами, вой сирены — снизу, из порта, мчалась по дороге «скорая помощь». Въехать на площадь машина не могла; санитары в форме пронесли носилки над головами людей, положили на них женщину, подняли ее. Лицо ее было синеватобагровым, словно замерзшие пальцы в холодное зимнее утро, ноги раскинуты. Мальчики вместе с другими составили почетный эскорт, сопровождавший ее к машине; Мэтт, держа аппарат на колене, продвигался вприсядку, будто отплясывал русскую,— хотел непременно снять распростертое тело с нижней точки.
Когда женщину увезли, они побежали в пирожковую — поскорей сообщить сенсацию родным Клайва, но тех это нисколько не интересовало: они ушли на виллу, не дождавшись Клайва.
— Да, тебе будет что показать там у себя, в Африке!— объявил Мэтт.
В тот день он снимал «Миноксом» и пообещал, когда пленка будет проявлена, сделать копию и для Клайва.
__ Вот черт, придется нам ждать, пока предки не свезут м0и пленки в Ниццу,— здесь проявить негде. А ездят они туда только по средам.
— Но к тому времени я уже уеду,— неожиданно вставил Клайв.
— Как, уедешь? Обратно, в Африку?— Огромное расстояние вдруг пролегло между ними — вот сейчас, когда они стояли голова к голове в толкотне деревенской улочки,— и не только все мили между их континентами, но и века, когда Африка была всего лишь контуром на карте.— Ты хочешь сказать, ты уже будешь в самой Африке?
■
фотоаппарат Клайва был водворен в его шкаф вместе с другими европейскими сувенирами — казалось, когда их распаковали, они лишились всей своей притягательности здесь, в родной, домашней обстановке, привычку к которой все ощутили с новой остротой. В самый первый день учебного года Клайв, правда, немножко похвастал — побывал, мол, там-то и там-то; но прошел какой-нибудь месяц, и, когда города и дворцы, которые он видел своими глазами, упоминались на уроках истории или географии, он уже не рассказывал, что бывал в них; да и потом — картинки и описания в учебниках так мало походили на то, что видел он сам! Как-то Клайв достал фотоаппарат — хотел взять его на спортивное состязание — и обнаружил в нем отснятую пленку. Ее проявили, и оказалось, что это бродячие кошки. Клайв вертел снимки так и этак, стараясь разглядеть тощие, одичавшие создания, разлегшиеся на булыжниках мостовой или размытыми пятнами исчезающие во тьме подземных переходов. Был там и снимок американца Мэтта, тоненького, с непомерно большими коленками (из-за того, что оказались на переднем плане), глядевшего подозрительно и вместе с тем умно из-под копны нестриженых волос.
Вся семья обступила Клайва — посмотреть; все грустно улыбались, охваченные внезапной тоской по прошедшей поезд-
ке — по тому, что в ней было и чего не было.
— Смотри-ка, фоторепортер «Тайма» и «Лайфа» собственной персоной...
— Бедняга Мэтт — какое там у него второе имя?
— Непременно пошли ему этот снимок,— сказала Клайву мать.— Вы с ним договорились переписываться? Ты взял у него адрес?
Но адреса не было. Оказалось, что у мальчика Мэтта нет ни дома, ни улицы — дома номер такой-то на улице такой-то, ни комнаты в доме — как, скажем, та, где собрались сейчас они.
— Америка,— ответил Клайв.— Его адрес — Америка, и всё.
Дом Инкаламу Уильямсона разрушается и вряд ли выдержит еще хоть несколько дождливых сезонов. А красные лилии перед домом все цветут, словно там кто-то живет. Дом этот был одним из чудес нашего детства, и с месяц назад, когда я вновь приехала в эти края — на празднества по случаю провозглашения независимости,— мне подумалось, что по дороге на боксит-ные рудники надо бы свернуть с магистрали, поглядеть на него. Когда я была ребенком, дом Уильямсона, так же как наша ферма, отстоял на много миль решительно от всего, а теперь он часах в двух езды от новой столицы. Я приехала в эти края в составе одной из демографических комиссий ООН (меня включили в нее, видимо, потому, что я здесь когда-то жила), и однажды утром, после завтрака в большом столичном отеле, я решила отправиться в путь. В лифте я спускалась вместе с пекинской делегацией; ее члены никогда не ходили поодиночке и никогда ни с кем из нас не разговаривали. Их можно было внимательно разглядывать, каждого по очереди, и при этом ни вы, ни они не испытывали никакого смущения. Я прошла через террасу для коктейлей (на столиках после вчерашнего приема еще стояли миниатюрные флаги разных стран) и покатила по магистрали; по ней можно ехать и ехать, спокойно делая восемьдесят миль в час, покуда не доберешься до крайней точки континента. Вот как я говорю об этом теперь; а ведь когда я росла здесь, для меня это была дорога, ведущая только к нашему дому.
Я полагала, что лес уже основательно сведен, но, едва выехав за городскую черту, убедилась, что он совсем такой же, как поежде. Зверья нигде не было видно, люди попадались
редко. В Африке вообще не знаешь, где тебе встретится чело век; когда я вышла из машины, чтобы попить из фляжки кофе меня так и подмывало крикнуть: есть здесь кто-нибудь? Земля была аккуратно отброшена от обочин. Я сделала несколько шагов в глубь просвеченного солнцем леса; веточки и сухие листья взрывались у меня под ногами, и мне казалось, я все сокрушаю на своем пути. На больших черных муравьев, напоминающих опрокинутые песочные часы, лучше было не засматриваться: когда-то на занятие это у меня ушло много послеполуденных часов. Новая асфальтированная дорога кое-где срезает изгибы старой, и, выехав к реке, я сперва подумала, что проскочила подъездную дорожку к дому Инкаламу. Но нет: вот она, длинная, обсаженная джакарандами аллея, круто спускающаяся к долине,— я не узнала ее потому, что у главной дороги появилась прогалина, а на ней — домик и лавчонка, которых здесь раньше не было. Лавчонка сложена из бетонных блоков, окна забраны решетками, небольшая веранда — именно такое заведеньице, какие стали теперь в наших местах открывать африканцы, делавшие раньше покупки у индийцев и белых. У въезда, как прежде, стояло большое манговое дерево; к нему была прибита самодельная вывеска: ПИВО КВАЧА СИГАРЕТЫ ВСЯКИЙ СОРТ. Под деревом разгуливали куры и стоял какой-то человек; велосипед его валялся рядом — словно рухнул от теплового удара.