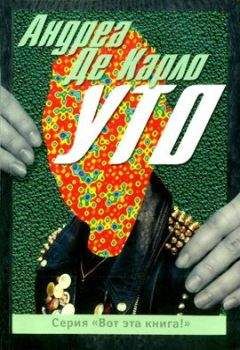Витторио тоже меня заметил и замер на месте с топором в руке. Он не издал ни звука, вполне возможно, что за четыре года жизни в этих местах он успел насмотреться на всякие способы самовыражения, впрочем, какая мне разница, удивился он или нет. С расстояния примерно в двадцать метров мы глядели друг на друга, как два зверя, и каждый прикидывал, чем грозит ему неожиданная встреча с незнакомцем. Он – разгоряченный, раскрасневшийся, надежно защищенный своей пуховой курткой, своей мускулатурой, своим жировым покровом, сапогами и перчатками, а я – босиком, в одной майке, худой и, наверное, белый, как снег. Ни один из нас даже не попытался что-то сказать, как-то выразить свои впечатления. Он первым отвел глаза и наклонился поднять расколотое полено.
Я повернулся и побежал к дому, уже не следя ни за своими движениями, ни за дыханием, потому что душевный порыв пропал, и сразу стало нестерпимо холодно. Тут я заметил в окне гостиной Марианну. Она стояла подбо-ченясь и пристально на меня смотрела через стекло. Я даже не предполагал, что кто-то будет на меня смотреть, у меня и мысли не было ни перед кем выпендриваться, устраивать тут показуху. Если б я только знал, что окажусь на публике, ни за что бы не вышел из дома.
Когда я входил в барокамеру, Марианна уже была там со светлым шерстяным одеялом наготове.
– На, возьми, – сказала она не то испуганно, не то удивленно, не то восхищенно.
– Спасибо, не надо, – ответил я, хотя мягкая пушистая теплая шерсть в ее руках была заманчива, как мираж. Собрав последние силы, я заставил себя ровно дышать, распрямиться и не стучать зубами.
– На улице пятнадцать градусов мороза, я посмотрела на градусник, – сказала Марианна.
Я хотел как можно небрежнее бросить в ответ «Да?», но язык прилип к гортани, а уши под анестезией все равно бы не уловили нюансов в ее ответе. Надев рубашку, я пытался застегнуть ее, но одеревеневшие пальцы никак не могли продеть в петли пуговицы.
Марианна, стоя совсем близко, следила за моими усилиями, потом показала глазами на улицу.
– Я тебя видела.
Сейчас мое «Да?» прозвучало более артикулированно, хотя унять стук зубов мне не удалось. А она все смотрела своим задумчивым взглядом, и я не знаю, чего в нем было больше – жалости или уважения. Иронии, во всяком случае, не было, это точно, и безразличия не было, и превосходства, я бы это сразу заметил. Меня вдруг передернуло, будто я сейчас чихну или расхохочусь, но я не чихнул и не расхохотался. Кое-как запихнул незастегнутую рубашку в штаны и, кивнув, насколько позволяли сведенные от холода шейные мышцы, в сторону окна, сказал:
– Чудесное утро!
– Да! – заулыбалась, закивала головой Марианна, уже снова, как всегда, чуткая, внимательная, все понимающая и собранная.
Я вытер мокрые ступни о штанины своих кожаных брюк, сначала одну, потом другую; стараясь не потерять равновесия, натянул дырявые носки и пошел, в прямом смысле не чуя под собой ног, в гостиную, где уже было включено отопление. С трудом доковылял до дивана и рухнул на него поближе к горящему камину. А Марианна все смотрела на меня, приоткрыв губы, словно хотела и не решалась о чем-то спросить. Ее взволнованный, даже потрясенный вид наверняка рассмешил бы меня своей театральностью, если бы от холода я не потерял способности смеяться.
Через некоторое время к ней вернулась ее спокойная уверенность, и она, по-прежнему прижимая к себе светлое шерстяное одеяло, спросила своим обычным голосом:
– Хочешь ячменного кофе?
Я ответил: «Ага» и еще кивнул на всякий случай.
Полдвенадцатого утра. Валяюсь на кровати, маюсь от скуки и лени, прислушиваюсь к звукам. Стараюсь уловить, что делается внизу. Рассеянно листаю книгу, подаренную как бы Джефом-Джузеппе, а на самом деле Марианной. Думаю, кем мне сейчас себя представить; у меня есть два-три варианта, я поочередно начинаю их и отбрасываю, переходя к следующему. Время от времени поглядываю в зеркало, проверяя, насколько соответствует выражение лица очередному образу.
Шаги на лестнице. Мышцы напряжены, состояние повышенной готовности, я уже стою в защитной позе посреди комнаты: одна нога выставлена вперед, плечи приподняты, голова опущена. Это Витторио – хочет потрепаться о моей прогулке босиком, съязвить, что я был похож на болотную цаплю, поинтересоваться, как я себя чувствую и не нуждаюсь ли в чутком собеседнике. В прямом открытом взгляде – желание помочь и умиление самим собой – вот, мол, какой я, любуйтесь! Открыть бы дверь да дать ему как следует под дых, пока он не успел сообразить, что к чему, а еще лучше упасть на пол, прикинуться мертвым, а потом вскочить на ноги и убежать или в окно выскочить. Хоть внизу много снега, но ничего не стоит себе все кости переломать, пусть потом перепуганный Витторио меня в дом на себе тащит.
Стук в дверь. Но разве это Витторио произнес «Уто!»? Нет, это застенчивая, погруженная в себя Нина, это она спрашивает: «Ты здесь?» с интонацией той, кто ее послал.
Говорю «входи» и за долю секунды, пока не открылась дверь, успеваю сменить защитную позу на расслабленную, взъерошить рукой волосы.
В комнате голос у нее меняется, теряет свою категоричность:
– Марианна спрашивает, ты не хочешь поехать с нами в храм? – У нее манера смотреть прямо в глаза, когда она задает вопросы.
– Что еще за храм? – спрашиваю равнодушно, будто мне это совершенно неинтересно.
От нее пахнет мятной жвачкой, недозрелыми зелеными яблоками с хрустящей белой мякотью, и мне не нравится, что они прислали именно ее.
– Просто храм, – говорит Нина и пожимает плечами. Она худая, одни косточки, представить ее толстой невозможно. Хотя если бы она ела, то, может, была бы такой же здоровенной, как ее отец. Этого-то она, наверно, и боится. Жует жвачку, естественно, с фтором и витамином С без сахара, я видел обертку на обеденном столе, – у них ведь в доме ничего неполезного не бывает.
Собираюсь сказать заготовленное заранее «заходи, присаживайся», но язык не поворачивается. Вообще, я не умею кадрить девчонок, просто работаю над своим образом, стараюсь быть обаятельным и привлекательным, чтобы им понравиться, жду от них первого шага, а если они его не делают, я тут же сникаю, потому что запасного варианта у меня нет. Чуть наклоняю голову, чуть растягиваю губы, готовый вот-вот улыбнуться, и, вглядываясь ей в глаза, спрашиваю:
– Интересно там, в этом храме?
Жду, что она скажет, но она только кривит губы и опять пожимает плечами, а ее взгляд, скользнув по полу и по стенам, покидает пределы комнаты, он уже где-то далеко.
Выхожу за ней следом и сначала смотрю на ее худенький, обтянутый брюками зад, а потом как бы снизу, из гостиной, на себя – хочу представить себе, как оттуда выгляжу.
В гостиной один Джеф-Джузеппе. Сидя на полу, он играет в паззл – складывает картинку города Лондона, но моментально вскакивает, едва со словами: «Ну что, поехали?» появляется Марианна. Походка у нее нервная, руки легкие, свободные в движениях, страстность, порывистость, капризность, возможно, неосознанные желания, которые рвутся наружу из крепко запертых тайников.
Нина на нее не смотрит, сразу проходит в барокамеру, Марианна провожает ее напряженным взглядом, отчасти понимающим, отчасти осуждающим, но с оттенком доброжелательности.
– Прекрасно, что ты тоже едешь, – обернувшись ко мне, говорит она.
Киваю головой и надеваю темные очки.
– Сбегай за папой, – говорит Марианна Джефу-Джузеппе, и тот – послушный сынок своей мамочки – быстро обувается, надевает куртку, шапку и бросается со всех ног за дом – в ателье Витторио.
Моя мать много лет добивалась, чтобы я называл папой ее второго мужа, а я каждый раз спрашивал: «Кого-кого?» В семье Фолетти все наоборот: тут соблюдение этикета обязательно для всех, тут каждый чувствует себя в отведенной ему роли как в своей тарелке. Меня это злит, даже пугает.
Наконец подходим к «рейнджроверу», начинаем рассаживаться. Марианна настаивает, чтобы я сел рядом с Витторио, – не знаю уж, из готовности ли жертвовать всем ради гостя или чтобы я не касался Нининых коленок. Мне трудно понять, хотя у меня очень тонкая нервная организация и обычно я чувствую малейшие перемены в настроении людей и разбираюсь в мотивах поведения, особенно женского. Не разумом, а чисто интуитивно, как рыбак, который неизвестно почему знает, где рыба будет ловиться, а где – нет. Зато факты вызывают у меня сомнения, я им не доверяю.
Витторио уже в роли шофера и главы семьи: он уверенно держит руль, внимательно следит за дорогой. Марианна сзади с чувством запевает «Харе Ом», он подтягивает, Джеф-Джузеппе и Нина тоже присоединяются, и вот уже машина наполняется хоровым пением.
Вдруг перед самым въездом на шоссе Витторио резко затормозил, показал рукой направо и сказал: «Смотрите!»
Мы все посмотрели. Из леса вышли пять оленей и пугливо остановились на опушке.
Витторио выключил мотор, мы сидели не двигаясь и смотрели. Олени тоже не двигались, но их тела были напряжены, головы подняты, они зорко вглядывались вдаль и нюхали воздух, застыв на фоне неподвижного снежного пейзажа. Мы замерли, как в живых картинках, – неподвижные лица без проблеска мысли и чувств. Я думал, мы так и просидим всю оставшуюся жизнь.