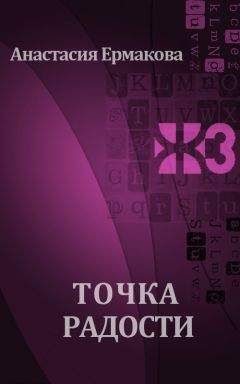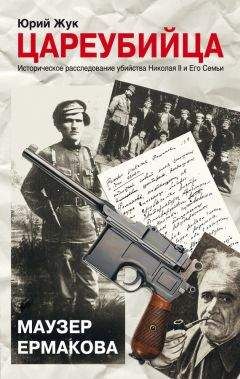— Где — там?
— После смерти.
— Умирать собрались?
— Пока нет. Но рано или поздно…
— А почему вы решили, что не встретят?
— Некому. Отец ушел, когда мне было семь, и больше я его не видела. Бабушку с дедушкой вообще не помню. А мать… Мать злилась на меня, даже когда умирала.
— За что?
— За то, что я жила не так, как ей бы хотелось.
— Но это ваша жизнь, и вы должны ее прожить так, как считаете нужным.
— Я знаю — она не встретит меня, — упрямится Инна Федоровна.
— Мне кажется, ваша мать в любом случае вас давно простила. Проблема в вас. Вы до сих пор находитесь под ее влиянием. А насчет того, что не встретят — не беспокойтесь. Конечно, достоверной информации у меня нет, но, думаю, кто-нибудь обязательно встретит. Пускай даже незнакомый человек.
— Незнакомый? — в ее голосе удивление.
— Почему бы и нет?
— Что ж… Это лучше, чем никто. Я вот еще хотела сказать… Про темноту. Помните, вы посоветовали мне, чтобы преодолеть страх, выключить свет и посидеть так минут десять-пятнадцать, пока не привыкнут глаза. А потом походить по комнате, ощупывая предметы, убедиться, что ничего страшного в ней нет.
— Да, и как, попробовали?
— Попробовала. Врезалась в стол, упала и разбила вазу. Вот, видите? — Инна Федоровна, задрав юбку, продемонстрировала мне огромный желто-фиолетовый синяк на левой ноге чуть выше колена. — Спасибо Анне Викторовне, сделала йодовую сеточку.
Отсмеявшись, я спросила:
— Но когда вы ходили, вам было страшно?
— Да не особо… Только когда падала.
— Значит, один страх мы точно уже победили?
— Как вы можете шутить, Анастасия Александровна? У меня вон теперь нога болит!
Рыхлый стук в дверь. Шаркающие шаги, любопытные, окруженные тончайшими штрихами морщинок глаза. Это Ксения Петровна — долгожительница «Кленов». Ей девяносто три.
Она живет здесь уже лет двадцать пять, с тех времен, когда пансионат еще был обыкновенным домом престарелых. Старики, тогдашние ее соседи, уже давно поумирали, а она, как памятник сразу нескольким эпохам, родившаяся еще до революции, бодро шныряет по коридорам нового, демократического путино-медведевского мира, всем своим видом показывая, что ничего-то, в сущности, не изменилось: так же стареют и умирают люди, так же не умеют справляться с одиночеством.
Ксения Петровна часами может рассказывать о своей долгой жизни, а я могу часами слушать. Она прекрасная рассказчица. И ей есть о чем поведать. Старушка — ветеран войны, а их всего-то в «Кленах» осталось шестеро, четыре раза была замужем, имеет троих, уже очень пожилых детей, пятерых внуков и восьмерых правнуков. В ДЗО № 34 решила уехать сама, похоронив последнего мужа.
— Характер у меня тяжелый, — объясняла она, — чего я у потомства буду под ногами путаться?..
На Девятое мая, которое в пансионате скромно отмечают самодеятельным, по Лилиному рецепту изготовленным концертом и негромким стариковским застольем, вся грудь Ксении Петровны украшена орденами, и она дребезжащим от волнения голосом исполняет «День победы». Сидящие за столом хрипловато подхватывают и, не обращая внимания на театрально затыкающего уши музыкального руководителя, поют искренне, горячо, так, что слова вонзаются в меня, никогда не воевавшую, глубоко, как занозы. Я не слышу никакой фальши — только свежие, живые, очищенные от налета заплесневевшей истории, боль и радость, и — подпеваю.
— А кто ж это такой — психолог? — полюбопытствовала Ксения Петровна, впервые посетив мой кабинет.
— Ну, если совсем просто — человек, пытающийся уменьшить боль другого. Помогающий людям справиться со своими психологическими проблемами.
— Какими же такими проблемами?
— Даже скорее не проблемами, а сложными, депрессивными ощущениями: отчаянием, разочарованием, страхом, безутешностью…
— И-и-и, проблемы! Вот когда есть нечего, и твой дом на твоих глазах горит, и похоронку получаешь — это горе так горе. А разочарование… Баловство одно. Знаешь, милая, сколько мы всего в войну навидались! Не дай бог никому. И ничего, справились. Как видишь, живая.
Ксения Петровна никогда ни на что не жалуется. Чаще всего приходит просто поболтать, расспросить меня о моей жизни.
— Обо мне уже столько говорено, давай лучше, девонька, о тебе. Скоро ребеночек-то на свет попросится?
— Через три месяца.
— Угу. Питаешься хорошо?
— Хорошо.
— Это самое главное. Ну, а муж что, рад, поди?
— Не очень.
— Вот дурень. Нешто молодой?
— Тридцать два, как и мне.
— Пора уже, что же это он? Ну, ничего, ничего. Ребеночек родится, ручонками к нему потянется, отцовское сердце и оттает, помягчеет. Ничего, девонька. Меня-то второй муж бросил с младенцем на руках. Нет, подожди, или третий? Да нет, второй, кажется… Иван вроде не бросал, дай бог всем, как мы прожили. Значит, второй, паскуда. Точно, он. А муж-то у тебя кто?
— Писатель.
— Это чего же он делает? — удивляется старушка.
— Романы пишет.
— Рома-аны. Вона как… Чудно. И про что же?
— Так, о жизни.
— О жизни? Чтобы о ней написать, девонька, ее сначала прожить нужно. Любит тебя?
— Раньше любил.
— А теперь?
— Теперь — не знаю.
— Нет, девонька, так не годится. Отец ребеночку завсегда нужен. Ну, повздорили немножко и ладно. Ты зла не держи. Помиритесь. Знаешь, как говорят: ночная кукушка дневную перекукует. Вечерком обними его поласковей, ну и сама знаешь, чай, тоже баба…
На обеде Лиля сидит грустная — физрук заболел. Анна Викторовна сосредоточенно поглощает пищу, пытаясь набрести голодной вилкой на редкие жилистые кусочки мяса, замурованные в крупитчатую коричневую с голубоватым отливом гречку. Ефимка задумчиво купает алюминиевую ложку в гороховой жиже.
— Анастасия Александровна, — усмехается он, — научите быть счастливым. Выпишите рецептик.
— С удовольствием, Ефим Андреевич, выписала бы и себе.
— Что, тоже хреново?
— Честно говоря, да.
— Погода, что ли, влияет? То подмораживает, то тает. Морока… Я вот думаю: должен же быть быстрый и безотказный способ сменить плохое настроение на хорошее. Что-нибудь типа переключателя. Щелкнул — и уже улыбаешься.
— Увы…
— Но лично вы как боретесь с плохим настроением?
Лиля почти не ест и отрешенно переводит взгляд с меня на Ефимку, в зависимости от того, кто говорит. Анна Викторовна, недовольная хилым мясным уловом, отодвигает недоеденную гречку и без всякого гастрономического энтузиазма потягивает компот мутно-бордового цвета с плавающими там ошметками умерщвленных кипятком ягод.
— Знаете, — говорит она, — к нам на постоянную работу собираются взять еще нескольких специалистов, которые раньше приходили только на дежурный обход: хирурга, уролога, окулиста и других, кроме того, расширить территорию медчасти.
— За счет чего, интересно? — выходит из транса Лиля, опасаясь, видимо, за территориальную сохранность танцзала.
— Обещают сделать специальную пристройку. По-моему, своевременно. Контингент у нас болезненный.
— Это ерунда по сравнению с душевными муками, — переводит разговор в прежнее меланхоличное русло Ефимка. — Так что надо делать, Анастасия Александровна, чтобы не умереть от тоски?
— Для начала перестать считать ее непреодолимой.
— Легко сказать! А конкретно — что?
— Ну, есть два основных способа: перефокусировка внимания и масштабирование. Надо соотнести неприятные события в своей судьбе с масштабом жизни в целом, мировым, вселенским, если угодно, — и тогда ваши личные горести представятся вам менее значительными. Второе — попробовать сфокусировать внимание на позитивном. Проще говоря — обратить внимание на то, что у вас хорошо, а не на то, что плохо. И как только у вас появится первый гедонистический позыв, то есть потребность в получении удовольствия, считайте, что вы спасены.
Но главное — нужны положительные эмоции. Лучше всего смех. Универсальное средство, на мгновение снимающее все противоречия. Смех — судорога счастья.
— Эмоции! Легко сказать! Где их взять?
— Да где угодно. Не злитесь на погоду, а посмотрите, какой сегодня прекрасный зимний день.
— День как день.
— Не скажите. А кстати, вам, Ефим, говорили, что вы очень интересный и привлекательный мужчина?
— Мне? — недоверчиво улыбается стоматолог. — Правда, что ли?
— И что вы нравитесь женщинам?
— Не без этого, — он игриво оглядел присутствующих за столом дам.
— Что вы на меня так смотрите? — в шутку смутилась Лиля.
Анна Викторовна, прикончив компот, с явно не стоматологическим интересом взглянула на Ефимку.
Он, уверовав в свою убойную мужскую неотразимость, посматривал на нас уже по-хозяйски распутно, как смотрит повелитель на свой трепещущий гарем, сладострастно представляя, какая из женщин смогла бы ему доставить сегодня ночью наибольшее наслаждение.