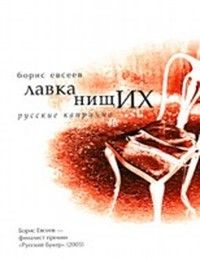– Марта-Магдалина, липы дали цвет?
– Да, ваша милость.
– Марта-Магдалина, деревья не такие свежие, как ты?
– Не такие, ваша милость.
– Марта-Магдалина, сразу как пробьет полночь, жду тебя в саду...
– Да, ваша милость.
– Марта-Магдалина, ты не боишься чумы?
– Воздух свеж. Липы цветут... Чума боится цвета, ваша милость.
Берлин, 2007. Унтер ден Линден
Ты стоишь на улице, представляешь себе старонемецкого сельского хозяина и бородатого фурлейта, представляешь чуму, неслыханную легкость и нежность ее пробежек, но прежде всего, конечно, сладкую хрупкость саженцев.
Старые деревья через каждые тридцать-сорок лет начинают умирать, их осторожно выкапывают, увозят, вместо них высаживают другие. Но сейчас тебе почему-то кажется: на этом месте продолжают расти все те же деревья. Как их высадили в 1647-м – так они и растут. Растут, не погибают, только молодеют, прибавляют лист к листу, ветку к ветке, возвышаясь над всеми возрастами и печалями.
На Унтер ден Линден ты решаешь не возвращаться. Может, потому что оттуда рукой подать до Николай-штрассе. Сегодня утром, во время прогулки на Николай-штрассе, ты услышал русскую речь:
– Мы, русские, обожаем посплетничать. Только – боимся. И вы, дорогая моя, боитесь. А чего вам, милочка, бояться? Живем – как у Христа за пазухой. Берлинской-то стены давно нет! Только одна китайская где-то там и осталась. Ну так и нечего бояться! Отбросьте предрассудки! Ну признайтесь вы мне, старой дуре: у вас с этим жокеем – роман? Или так, мимолетность? Он притронулся к вам, вы к нему, и, как бабочки-лимонницы, – врозь, врозь!
Бр-р. Слушать соотечественниц, пусть даже и бывших, пусть даже под липами? Да ни за какие коврижки! Скорей в кабачок на воде. Но сперва – еще в одно местечко!
Берлин, октябрь 1990 года
Стену снесли, а потом и разобрали по камешкам быстро. Искры и треск, быстрота решений и каменная пыль едва уловимо кружились над площадями и скверами огромного города. На прилегающих к рухнувшей стене улицах шум, скорость и треск вызвали к жизни какие-то неясные фантомы, флюиды.
А в это время на Унтер ден Линден по рядам лип, уже наполовину сбросивших лист, уплотнивших кору и поопустивших крупные ветви в предчувствии зимы, – шел гул, ропот.
Тихо-тревожно передавали липы друг другу весть: их могут выкорчевать, мелко изрубить, посечь листья и мелкие веточки, а потом вывезти всю эту зеленую кашу за город, на корм скоту! Так же, как в конце 30-х.
И тогда они (островок настоящей свободы, островок истинной жизни), и тогда они, предчеловеки, могут погибнуть навсегда. Тогда их бессмертие, передаваемое бульбочками хлорофилла и вспышками фотосинтеза от сердцевины к сердцевине, от ствола к стволу, из века в век – может грубо и нагло прерваться!
Берлин, весна 2007 года
Кабачок на воде пуст. Два-три посетителя в углу за синей деревянной колонной. Бармен, нежно дующий в пустые бокалы. Гулко. Темно. Все.
Мальчик этот как раз из-за деревянной колонны, украшенной поверх синевы мелкими серебристыми звездами, и вынырнул.
– К тебе можно?
Слегка развязный, но улыбающийся, приятный. Круглое лицо. Несколько крупных веснух прямо на кончике носа. Глаза беспокойные, но пока еще широко раскрытые, не суженные до щелки озлоблением возраста. Говорит по-русски чисто, правда слегка вычурно. Так говорят носители языка, прожившие несколько лет вне страны происхождения.
– Садись уж.
– У тебя денег сколько?
– Тебе на мороженое хватит.
– Хочу пива. Я «Гессера», блин, хочу. А деньги мои – один тут зажилил.
– Ишь ты. А родители-то пить пиво позволяют?
– Я тут один, без родителей.
– А я думал, дети без родителей только в России бывают.
– Ну ты сказанул, – чуть сдавленный, с мелким дребезгом, словно бы старческий смех. – Ну сказанул. Здесь и не такое бывает! А родители... Они же тут, рядом, в Германии. Только в другом городе.
Воздух – как возраст: то свежий, юный, а то – затхленький, дряхлый. Вдруг приходит в голову: есть несколько категорий, несколько признаков возраста. И, пожалуй, их пять:
– младенческое ангело-божие;
– детская деспотия;
– юношеское легкое помешательство;
– наплевательство зрелости;
– гнусноватая старческая насмешка над сущим. Марево воздуха все колышется. Мальчик становится то больше, то меньше, а то и вовсе крошечным: ручки-ножки болезненно выкривляются, уголки рта опускаются вниз, лицо лиловеет, уши наливаются гаденькой синеватой краснотой. Пугаясь, трогаешь мимовольно свой лоб: не лихорадка, не жар ли?
Нет, ничего похожего.
Ну, стало быть, действует алкоголь.
Мальчик внезапно пересаживается поближе, шепчет вухо:
– Ты должен вывести меня отсюда, пока его нет. Пока он готовится к выходу. А потом... потом я тебе покажу, что надо.
– Он – это кто?
– Тс-с-с. Он здесь, близко. Скоро выйдет развлекать посетителей. Он себя зовет Дипеш-Дрилло. На итальянский манер. А на самом деле он – Димитриос, Дима, мой друг. Только не в смысле дружбы, а в другом смысле.
Долгая пауза.
– Так ты гомик? – Не в силах совладать с гримасой отвращения, которая наверняка безобразит лицо, пытаешься встать, выбраться из-за стола.
– Да, а чего? Вам можно! Вам – можно все! А нам, детям, так совсем ничего уже и нельзя? Я ведь не сам, он меня заставил! Ы-ы-ы, а-а-а... – Слезная влага начинает заполнять мешочки глаз, потом и сами слезы – одна за другой – бойко спрыгивают с ресниц, текут по пухлым детским щекам.
– Ладно, брось рюмзать. Я ведь ничего такого не сказал... А ты вроде малый, что надо, спортсмен, наверное, – стараешься чем-то ободрить его. – И... внешность у тебя привлекательная. Только волшебного рога тебе и не хватает!
– Какого рога? – слезы сами собой впитываются в веснушчатую кожу, нос начинает с любопытством поклевывать воздух.
– Есть такая немецкая книга, «Волшебный рог мальчика». А в ней стихи:
Ins Jubelhorn ich stosse,
Das Firmament wird klar,
Ich steige von dem Rosse
Und zahl' die Vogelschar.
Мой рог звенит, ликуя,
Свод многозвездный тих,
Тогда с коня схожу я,
Считаю птиц своих...
– Так это такой рог – в который трубят? А я думал, – который на голове.
– Да ты, погляжу я, остряк.
– А то. Вот я тебе сострю по секрету: у нас тут целый рог дерьма наберется скоро! И тогда я уже буду не Шпрех-Брех – так меня Дрилло зовет – а буду Сливной Бачок... Т-с-с. Дрилло топает! Не говори ему ничего. А то заработаешь у меня. Он тут покривляется часок, потом упилит к себе и отрубится до вечера. Тогда нас с тобой – поминай как звали.
Ничего подобного видеть и слышать тебе не доводилось.
Музыку включили громче. Зазвучала русская песня.
Дипеш-Дрилло – невысокий, бритый, со скопческим равнодушным лицом и большими, как-то странно высветленными глазами, стал иллюстрировать танцем то, о чем пели.
Выйду на улицу – свету нема,
Девки молодые свели меня с ума!
Раньше я гулял во зеленом саду —
Думал на улицу век не пойду.
Дрилло охлопал себя по бокам – и ты увидел, как меркнет свет, как осторожно выглядывает на улицу, сквозь ветви сада, истомленный одиночеством купеческий сын. Дрилло мелко и бережно переступил ногами – и встали в круг, и повели хоровод девки: сладко подмигивающие, двусмысленно улыбающиеся.
– Про девок – он врет! Не смотри на него!
Но ты от Дипеша уже не мог оторваться: таинственная жизнь, полудеревня-полугород, Россия, скрытая от себя самой, явились вдруг перед тобой, в исполненной скрытых смыслов песне, в плавучем немецком кабачке.
Мама моя родная, дай воды холодной,
Девки молодые...
Прохлада воды, утихающий летний зной, потекли вслед за Дриллой по залу. Вышла, подбоченясь, строгая мать, отвесила сынку звонкую пощечину, и все началось заново: света нема! Девки! Сад зеленый! Век бы сквозь веточки на них глядеть!
Ух, Дипеш! Ух, Дрилло! Супер! Ух!
Бледнея лицом и кругля до невозможности глаза, Дипеш вылеплял руками объятия и поцелуи, а ногами, ступающими словно бы отдельно от тела – изображал приближающуюся темную ночь.
Внезапно Дрилло сделал непристойный жест – и где-то за рваной занавесочкой криво заулыбались сводник и сводница.
Песня кончилась. Подсматривающий за девками из сада – убрался восвояси, в далекую, не восстановимую ничем, кроме песни, жизнь, а Дипеш-Дрилло, вместо того чтобы уйти в артистическую уборную, подсел к нам.
– Уже наговориль фам тут всякого? Смотри мне, – ласково мазнул он по губам Шпрех-Бреха лилипутской ладошкой.
– Да нет, он – ничего такого. Симпатичный малый. Я рад знакомству.
Тут Дипеш сделал зверское лицо и предупредил:
– Если чего удумаете – у меня в полиции знакомые.
– Где вы так хорошо выучились по-русски?
– О, я три года гастролировал с фашим ансамблем по России. «Три струны» ансамбль назывался. Они меня сделяли настоящим артистом.