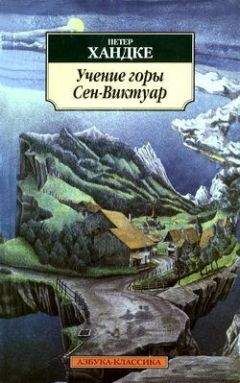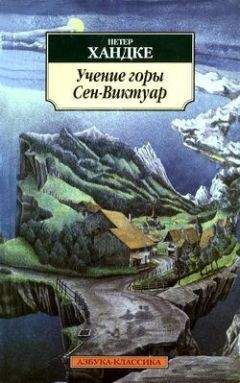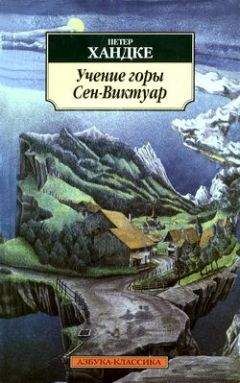Холодное, ясное мартовское утро. За одиноким раскидистым кедром клубится сине-приливное мятежное небо, над рельсами посвист, электрический гул, шум проносящихся скорых поездов, а в глубине метрополии просвечивает между кубиками домов извивистая река, раскинув словно бы оцепеневшие притоки и растянувшись, как спящий великан. Мужчина идет быстрым шагом, почти бежит, как на последней, решающей финишной прямой, – так некогда, по словам летописца, выходили в финал, – звонит не в ту дверь, ему показывают правильную, и вот свершилось: его слово – которое он с таким трудом, заикаясь, выдавил из себя – возымело силу, и уже на другое утро злосчастная школа остается навсегда по ту сторону железнодорожных путей, а ребенок, убежденный воодушевленными речами взрослого в том, что это пойдет ему только во благо, дает новым детям покорно и даже благодарно окружить себя. – Речь шла всего-навсего о смене школы, но вместе с этим шагом для ребенка произошло нечто жизненно важное.
Ребенок проучился в этой конфессиональной школе до конца учебного года и остался еще на весь следующий (потом все равно нужно было переходить по возрасту на другую ступень и, стало быть, в другую школу). Это заведение не было школой мечты – такая у ребенка уже в жизни была, и к тому же она теперь закрылась (далее дорожку заасфальтировали). Здесь было все просто и незатейливо, и для ребенка это было хорошо. В отличие от прежней школы, сюда ходили дети из самых разных семей, и жили они все где-то поблизости, сам же пригородный район, ничем как будто не отличавшийся от соседних, с которыми он практически сливался, сохранил все же какую-то деревенскую обстановку окраинного захолустья. И та же захолустность царила в местной школе, в простоте нравов которой заключалось некое здоровое начало, оказавшееся для ребенка в каком-то смысле даже полезным. На удивление быстро он освоил разного рода вульгарности и даже получал от этого удовольствие. Поначалу взрослый хотел запретить ему подобные, считающиеся неприличными, глупости, создававшие к тому же впечатление, будто его ребенок поет с чужого голоса, но потом он понял, что эти дурацкие шуточки и присказки, при всем их идиотизме, служат ему пропуском в общие игры, которых ребенку так давно не хватало. В конце концов, взрослый был даже рад, что его дитя не проявляет никаких признаков ханжества и никакой набожности. И вообще, разве можно себе представить, чтобы ребенок был верующим?
В целом этот период в истории ребенка, в отличие от предшествующих лет, определялся не столько школой, сколько домом, где он по большей части был наедине со взрослым, причем нередко они проводили время порознь, каждый в своем углу, и даже на разных этажах. Кто-то из тех, кто захаживал иногда к ним в гости, сказал впоследствии однажды, что поначалу оба они производили на него впечатление «очень грустных существ», и только позднее он понял, что в действительности их союз нельзя назвать несчастливым, скорее, наоборот – удивительно радостным и крепким; сам взрослый, вспоминая это время, считал, что никогда еще не чувствовал себя столь близким к блаженству, как тогда.
Однако напряжение всех этих лет, проведенных в другой стране, все больше давало о себе знать, внося разлад, который уже невозможно было сгладить никакими средствами гармонии. В то время как взрослый незаметно, медленно сроднился с чужим языком, ребенок, который научился управляться с ним ловчее, чем местные дети, переходил на этот второй язык с большой неохотой и даже отвращением. Было очевидно, что так называемое двуязычие не только являет собою, как говорят, бесценное сокровище, но может со временем привести к болезненному раздвоению. Дома, с мужчиной, ребенок никогда не пользовался чужим языком (разве что в шутку), в школе же на протяжении всего дня он не слышал ни одного родного слова. Когда ребенок, вне занятий, общался с местными, взрослый часто просто не узнавал его: от этого другого наречия у него появлялся другой голос, другое выражение лица и совсем другие жесты. Чужая манера говорить влекла за собою совершенно чужую систему движений: насколько искусственно и подражательно звучала эта речь, настолько же марионеточными казались движения – и в этом проявлялся уже не только страх, но и невладение собой (что было, вполне вероятно, делом обычным, широко распространенным и потому лишь с точки зрения немногих заслуживающим внимания). Во всяком случае, по ребенку было видно, что, когда он возвращается в дом и, следовательно, в свою языковую стихию, он всякий раз заметно расслабляется – говорит с явным удовольствием, тело становится гораздо более спокойным, а взгляды – безмятежнее. Да ведь он и сам описывал, что всякий раз, прежде чем перейти на другое наречие, ему нужно сначала внутренне собраться и, главное, «настроить» совсем по-другому язык.
Эта раздвоенность в течение года как-то забывалась, зато в конце каникул, которые ребенок проводил в стране происхождения, снова выплывала, превращаясь в настоящую беду. Боль от резкого перехода к чужим буквам, звукам, окружавшим со всех сторон, была несравнима ни с какой иной болью, и не было тогда для него другой такой леденящей чужеземной страны, как этот говоривший на чужом языке пригород.
В дни приезда всякий раз было ясно, что возвращение в родную языковую среду становится насущной необходимостью, и чем скорее это произойдет, тем лучше (хотя, как правило, эта потребность с завидной регулярностью отодвигалась куда-то на задний план, ибо уже на следующее утро благодаря дому, саду, привычным дорогам и взглядам весь ужас как по волшебству улетучивался). – Кроме того, была и другая, быть может, еще более весомая причина для возвращения на родину: за все пять лет, проведенные в другой стране, у ребенка не завелось ни одного-единственного друга из местных детей, все его друзья были приезжими из иных стран – в основном даже с других континентов, и принадлежали к самым разным расам.
С утешениями покончено – ребенок возвращается к своему первому языку. Принятие такого решения стало возможным потому, что и у взрослого назрела необходимость внести изменения в течение своей жизни. Из-за ребенка (который почти не оставлял ему времени для серьезной работы) он постепенно растерял свое былое честолюбие и все с большим удовольствием отдавался вдохновенной праздности; и не только наличие ребенка избавляло его от угрызений совести, но и чужеземное окружение, где никто не спрашивал о том, чем он занимается, и он был просто «всеми признанным иностранцем», что вполне соответствовало его представлению об идеальном существовании. – Прежними стараниями он обеспечил себе достаточно средств и потому мог позволить себе не беспокоиться о заработках. Во время долгих прогулок по окрестным пригородам, плавно переходящим один в другой, ему открывался неслыханный ландшафт, который он потом, с течением времени, мог бы перенести на невиданную, непреходящую карту. Кажется, что еще нужно: ничего не делать, просто жить с ребенком (всемерно опекая его), укрывшись под сенью «чужбины», укрывшись в иноземном пригородном доме вблизи иноязычной школы, укрывшись в спусках и подъемах идеально пустынных пригородных улиц, прочерчивающих холмы, с верхушек которых виден вдали большой город, сверкающий все новыми мгновениями вечности?
Но именно радость ничегонеделанья порождала деятельные, властные идеи сложения более масштабного, более мирного, более великодушного, иными словами, хорошего и единственного миропорядка, и это пробуждало в нем настоятельную потребность в том, чтобы все зафиксировать, упорядочить и передать дальше. Ему, пребывающему в праздности и часто впадающему в раздражение от предоставленности самому себе, созвучно было признание единомышленника прошлого столетия: «Без моей любви к формам я сделался бы мистиком». – Нет, он тоже был неспособен, довольствуясь одним лишь чистым созерцанием, жить, растворившись в восторженном умилении или самозабвенности: он должен стать властелином своих мыслей и взглядов, а для этого ему требовалось все же снова вернуться к деятельности.
Так было принято решение, что он расстанется на год с ребенком. Девочка осталась у матери – которая ведь никогда не исключалась из жизни – и пошла там, в стране происхождения, более того, в городе, где она родилась, в школу. Расставание далось ребенку легко, главное, у него теперь был родной язык и друзья (которые жили в том же доме). И точно так же взрослый, который еще недавно с таким презрением относился к тем, кто ради какого-то там «дела» совершенно забрасывал дела повседневные, чувствовал себя в полном праве спокойно устраниться: после стольких лет, которые он целиком и полностью посвятил ребенку, он мог позволить себе взять наконец свое; осуществление задуманного, однако, требовало абсолютной сосредоточенности, исключающей какие бы то ни было отвлечения. (К тому же он был уверен, что отсутствие «вечно другого» пойдет во благо ребенку.)