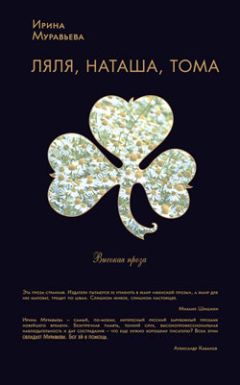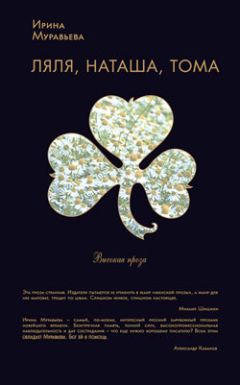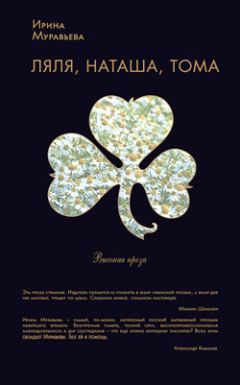– Вот именно: дети, – смеется Аркадий. – Мои, кстати, дети.
– Чего-о-о?
– Заладил: «чего»? Говорю: мои дочки!
– Ты врешь, гад! Ты, гнида, все это придумал!
– Да что там: «придумал»! Простое ведь дело! Любила меня твоя мать, ох, любила! Пришили мне щеку в ожоговом центре, попортил один фраерок. Ну, бывает. А тут твоя мама. Влюбилась как кошка. Отец-то уж твой ни на что не годился. Уколы там, химия, банки да склянки. А тут вот он: я. Молодой и здоровый. Мне щеку пришили. Минутное дело!
Тут Федор вскочил и давай его – лапой! Аркадий смеется:
– Потише ты, Федя. Успеем подраться. Так вот. Где мы это? Любила меня, ох, и сильно любила! Мужик ее скоро копыта откинул. Я звал ее замуж. Да, звал. Даже очень. Она говорит: «Не пойду, блин, мне стыдно». Ну, стыдно так стыдно. Сиди тогда в девках. Потом родила. Дочки вроде что надо. Я их не бросаю: деньжата, одежку… А лет через пять я и сам, брат, женился. Здоровая телка, совсем молодая. Родился пацан. Хорошо! Я доволен. А мать твоя, блин, в кипяток! Крики, вопли… Потом заболела. Ну, дальше ты знаешь.
– Не ври! – брешет Федор. – Ни слову не верю.
– Пошел, Федька, вон! – отвечает Аркадий. – Не ценишь ты, блин, ничего. Эх, не ценишь!
Федор нацепил на себя одежду, схватил меня за ремешок, и мы побежали. На улице был уже вечер.
– Мишаня, – ревет мне мой Федор, – да как же? Она же ведь мать мне, а тут эта гнида!
Я думал, его пронесет – так он плакал. Я грел ему лапы, лизал ему морду. Потом чем-то очень паршиво запахло. Каким-то дерьмом вместе с одеколоном. Я чувствовал: кто-то стоит очень близко. Но кто, я не видел.
– Пошли! – брешет Федор. – Пускай забирают! Она, Миша, блядь, да и все они бляди! Мне б только девчонок отдали! Слышь, Миша?
И мы побежали по улице сразу. Над нами катилась луна в белой пудре.
Шурин дом спал. Федор изо всех сил заколотил в дверь. Открыла нам Шура. Босая, в рубахе.
– Оксана где? – Федор ревет. – Где Оксанка?
– Я здесь, – отвечает Оксана и входит.
– Убить тебя мало! – ревет ей мой Федор. – Какие ж вы подлые, бляди все, бабы!
Оксана стоит и молчит. Шура тоже.
– Давай собирайся! – ревет им мой Федор. – Везу тебя к Стиву! Туда и дорога!
А сам вдруг упал. Как на льду подскользнулся. Стал белым, как пена, и не отвечает.
– Оксанка, воды! – брешет Шура. – Оксанка!
Но Федор уже задышал и заплакал. И Шура его обняла, как ребенка.
– Молчи, Федя, слышишь? Молчи, успокойся!
Тут в дверь застучали. Оксана открыла.
Вошли тогда Стив, и Аркадий, и двое. Один пах дерьмом вместе с одеколоном. Он, значит, был тот, кого я уже чуял.
– Ну, что же ты, сучка? – Аркадий смеется. – Совсем оборзела? Пойдем-ка подышим!
Оксана тогда ему плюнула в морду.
И тут всё вокруг стало красным и мокрым.
Один, тот, который пах одеколоном, ударил Оксану, и Федор рванулся, но сразу упал. И тогда я не вынес. Я весь навалился сперва на Аркашку и стал его драть. И я драл его долго. Содрал шкуру с морды. Он сразу свалился. А я заревел и пошел на другого. Наверное, на Стива – задрать его тоже. Но тут мое брюхо вдруг стало горячим. Какой-то раздался хлопок, всё погасло.
А я вдруг поплыл! В голубом и холодном. И всех их увидел. Аркадий был мертвым. А Стив был живым. Но плевать мне на Стива! Мне главное: Федор.
Он маленьким стал, Федор мой, как ребенок. Меня он не видел. Он видел Мишаню. Мишаня лежал на полу, был весь красным. Тогда и я понял:Мишанюубили.
Мне нужно бы было реветь. Да, реветь бы! А я плыл и плыл. И глядел, как он плачет. Он думал, что я его бросил.
Не брошу!
1
Летом в подъезде пахло ванилью, зимой – мокрым мехом. Теплым собачьим мехом, потому что в доме было много собак, их водили гулять, приводили обратно, мокрых, с грязными лапами. Старая лифтерша укоризненно качала головой, вязальные спицы в узловатых пальцах останавливались: «Да куда ж вы его, заляпанного! Он же вам все паркеты попортит!» Или: «Да спустите вы эту лахудру с рук! Смотрите, что она вам с воротником сделала!» Но ответы чистоплотная лифтерша получала всегда вежливые, улыбчивые, и любимая грязная собака тихо входила в лифт за своим хозяином – то каким-нибудь крепким мужчиной с седеющими висками, в добротной дубленке, то молодым костлявым человеком в больших очках, в яркой, со множеством ненужных карманов куртке, то мягко взмывала вверх в зеркальной кабинке, крепко прижимаемая к груди немолодой дамы, уткнувшей подкрашенные губы в мокрую собачью шерсть. Лифтерша же, вновь принимаясь за вязанье, только усмехалась на баловство. Но баловство было свое, родное, и все в этом доме, где она, старая, с узловатыми пальцами, день-деньской сидела на стуле и вязала носки, было таким родным, милым сердцу, что сердце это с радостной привычкой отзывалось на всякое хлопанье двери лифта, откуда выходили, не торопясь, располневшие мужчины в ондатровых шапках, выбегали их дети, поступившие в МИМО и в иняз, неизменно вежливые, воспитанные, весело бросающие ей на бегу: «Привет, баб Тонь!», а попозже, часам так к одиннадцати, задерживались у ее стула на пару фраз когда-то красивые, старательно припудренные, с набухшими мешочками под озабоченными глазами женщины, вкусно пахнущие питательными кремами, давно не работающие и горько ревнующие своих располневших, чисто выбритых, в добротных дубленках мужей…
Такой вот был дом, большой светло-желтый дом на Беговой, где жили и добра наживали в устойчивое время задорных КВНов и аксеновских «Коллег» художники, композиторы и писатели – все из благополучных, из достигших, – каждый из которых имел по ондатровой шапке, ревнивой, быстро стареющей жене, сыну или дочке в модных курточках, а иногда – если уж очень душа требовала – обзаводился еще и собакой, тут же вступающей в соревнование за чистоту породы и смекалку с другими собаками и радующей хозяина успехами в воскресной собачьей школе.
Он долго добивался: звонил, обивал пороги, делал подарки, пока не попал наконец в этот кооператив. А когда задуманное сбылось и они въехали в трехкомнатную, с огромным холлом квартиру, в нем поселились счастливая уверенность в себе и какая-то почти гордость, словно он не просто поменял место жительства, а совершил серьезный поступок, в будущем обещающий улучшить всю его жизнь. И жизнь действительно начала улучшаться.
За спиной еще саднило и похрипывало мертвое молодое прошлое, в котором он был не он, теперешний Михаил Яковлевич Дольский, старший преподаватель института иностранных языков, а бедный паренек из польского местечка, ветром войны и беды занесенный в чужую снежную Россию, где он с трудом осиливал неповоротливый русский язык, работал на лесоповале, воровал лук у хозяйки, огромной, с лиловыми щеками старухи-сибирячки. Сизые луковые связки она развешивала в чулане, где он снимал отгороженный занавеской угол.
Все это возвращалось к нему во сне и наплывало, наваливалось: лесоповал, мама в черной косынке на седых, неподколотых косах, сгорбленный дед со страдальческими провалами глаз, старуха-сибирячка… Декабрь сорок четвертого… Ему, конечно, повезло. Не лагерь, а всего лишь лесоповал, и за полтора года на фронте ни одного ранения. Но, Господи! Ведь это же не просто так повезло ему, а потому что он – ни на секунду не забывая об этом – хотел, чтобы повезло, мысленно неустанно требовал этого. Выжить, выкарабкаться, спастись, не исчезнуть с этой холодной, скрипящей под снегом земли, на которой уже убили его седокосую маму с желтой звездой на кофте и умер своей собственной, быстрой и милосердной смертью не дошептавший молитвы дед, а ему, Михелю, остались эти ледяные сугробы, по которым вяло плелась из деревни в город Томск заплаканная лошаденка, униженно выпрошенная у однорукого председателя, потому что иначе никак было не попасть в прокуренное здание Томского пединститута, который он заочно заканчивал.
От этих дней сохранилась ходячая шутка его друзей: «Миша, скажи: „Белая лошадка шла-шла и упала!“, и он, посмеиваясь, отвечал: „Бевая вошадка шва-шва и упава…“ Крепко впилось в осиленный русский его польское „л“, звучащее как „в“, и никакими силами не менялось. „Шва-шва и упава…“
А Люда, жена, была из хорошей московской семьи: отец – скорняк, мать – закройщица. В квартире стояла дубовая мебель и было даже пианино с хрустальными подсвечниками, измученное гаммами усидчивой Людочки, на которую не жалели денег. Он давал тогда частные уроки немецкого языка, но не прошло и месяца, как не бедным репетитором, а счастливым женихом стал он приходить в этот дом, где всегда поили чаем со вкусными бутербродами, и отец-скорняк, усталый, с бегающими глазами и шишковатым лбом, был выше всяких предрассудков, так и сказав однажды за обедом: «Полюбила еврея – выходи! Мы с матерью не против!» А мать, испуганная, с маленьким птичьим подбородком и сухими розоватыми колечками волос на лбу, только покраснела вишневыми пятнами и согласно закивала. Перед самой свадьбой отец завел его в тесную комнату, где сушились на специальных досках распятые зверьки с мертвыми бусинками глаз и пахло старой кровью, крепко взял за локоть и прошептал: «Гляди, Миша, приданое тебе покажу!» И действительно показал; развернул на толстой, тоже вдруг запахшей кровью ладони синюю тряпицу, в которой засверкали сапфировое колье, большая рубиновая брошь и несколько колец с крупными бриллиантами.