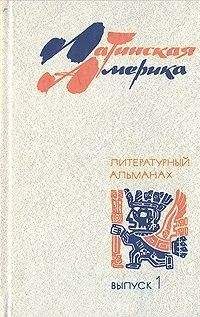Она смешно взвизгнула и закрылась простыней.
— Ты кто такой?
— Я? Заколдованная лягушка.
— Какой ужас! Не смотри на меня. У меня язык одеревенел; пить хочу. — Она вдруг надулась. — А Маркиз где? — Я пожал плечами. — Знаю я, знаю, эта жирная старуха все время за нами следила, — заговорила она сердито. Умела его к себе. Околдовала она его.
Ты уверена, что это так?
Ну, а где же он тогда?
Поищи. Может, у тебя в постели.
Негодник! — Она глянула через обнаженное плечо, словно только сейчас меня заметила. — А ты кто такой? Что ты здесь делаешь? На дне рождения был?
— Кажется, был. А ты как думаешь?
— А, да, теперь вспоминаю. Ты меня хотел загипнотизировать издали, и ничего не вышло. Сел в калошу!
— Кто знает! Бывает гипноз замедленного действия, не слыхала? А иначе, подумай, как бы ты оказалась здесь?
Она все оглядывалась вокруг:
— Фу, какая у тебя скверная комната. Ни одной Картины. Голые стены — прямо ужас. А ты — Педро Игнасио, верно? Я теперь вспомнила. Ух, до чего же холодно!
— Принести тебе выпить? Я вчера спрятал одну бутылку.
— Нет, что ты, я и так слишком много пила. Слушай, у меня есть репродукция Гогена. Я тебе подарю. Ой, ну как же мне согреться?
— Мое одеяло не теплей твоего, но если тебе кажется, что теплей…
Не успел я договорить, как она выпрыгнула из постели, словно кролик, и нырнула ко мне.
— Ох, как хорошо! У тебя гораздо мягче, — она закрылась одеялом до подбородка, — знаешь, какая у меня есть картинка? Таитянки с подносом, а на подносе плоды манго.
— И груди у них здоровенные, прямо на диво, да?
— Да. Перестань, что это такое? Не надо пока. Ты же видишь — я волнуюсь.
— Боишься опоздать на занятия?
Она сморщила носик:
— Я уже несколько месяцев не хожу. Если бы папа знал… Нет, я совсем о другом беспокоюсь.
Она была мягкая, нежная. Очень нежная.
— О чем же?
— Нет, не скажу. — Она отталкивала меня коленями и чуть было не… — Боюсь даже выговорить. — Ее слегка трясло.
— Скажи, что за важность.
— Я так боюсь.
— Ну, тогда не говори. И катись отсюда, а то я упаду. А чего ты дрожишь?
— Не от холода, не думай.
— Давай катись отсюда! Или лучше скажи сразу. Может, как скажешь, тебе легче станет. — На щеке у нее было пятно от вина. Я послюнил уголок простыни, стал вытирать. Заодно размазались и брови.
— Маркиз. — Она помолчала, испуганная. — Я его вижу. Он весь в крови. Целая лужа крови.
— Ты всегда такие вещи видишь?
— Не всегда. И это не вещи. Это называется предвидение, — поправила она.
— И что? Маркиз умрет или его убьют?
Она покачала головой — не то утвердительно, не то отрицательно.
— Ты ничего не можешь сделать?
— Я много чего могу сделать, — Небритым своим подбородком я прижался к ее спине. Она вздрогнула. Кожа у нее была такая тонкая, что казалось, светится изнутри, будто китайский фонарик.
— Ты колючий. Как ежик. Нет, ты правда скажи: можешь ты что-нибудь сделать?
— Что, например? Уговорить Маркиза застраховать свою жизнь на твое имя?
— Дурак! Он говорит, что ты его лучший друг.
— Ну, тогда он пропал.
— Не трепись, я с тобой всерьез говорю. Я же его вижу, и вчера вечером видела, совсем ясно. В большой луже крови.
— Ну, а я-то что могу поделать?
— Откуда я знаю? У тебя, наверное, есть знакомые, которые могли бы ему помочь.
— Ну, конечно, все ясно. Я иду к своему приятелю и говорю: «Слушай, друг, давай спасем Маркиза, его хотят убить». — «Откуда ты знаешь?» — «Мне Фиолета сказала». — «А кто это — Фиолета?» — «Есть такая девочка чумовая, она сбежала из гарема, и ей чудятся всякие штуки». — «А, ну тогда это дело трудное». — «Конечно, очень даже трудное». Мы идем вдвоем к третьему приятелю и объясняем ему…
— Не валяй дурака. Хватит шутить. Я тебе серьезно говорю. И да будет тебе известно, со мной такое не в первый раз, у меня уже были предвидения. Вот Моника, моя подруга по университету, я ей предсказала, что она забеременеет. И она забеременела. Сказала, что у нее родятся близнецы. У нее и родились близнецы. Меня потому и пригласили в кружок.
— И ты в этом кружке вроде как помощница Карлоты?
Она сделала презрительную гримаску и повернулась ко мне спиной.
— Чертова кукла, ты что думаешь, я деревянный? Может, хватит, нет? А потом человека обвиняют в изнасиловании.
— Успокойся, песик. Разве не видишь, написано: по газонам ходить воспрещается.
Я настаивал на своем, она повернулась, гибкая, как кошка, и укусила меня в плечо, здорово укусила. След от ее зубок не сходил несколько дней.
— Тогда ступай на ту кровать.
— Нет, нет, нет. Там очень холодно. Ты подожди немножко. Что ты такой торопыга.
— Ладно, не будем торопиться, не блох ловим, потерпим. А почему ты думаешь, что у меня есть знакомые, которые могут ему помочь?
Она расхохоталась, громко, серебристо:
— Вот видишь, ты сам себя выдал.
— Зачем так говорить — выдал? Мне выдавать нечего.
— Не строй из себя глупенького. Я знаю. С тех пор как валили автобусы, вы все больно уж конспиративные стали.
У меня один есть знакомый, венесуэлец. Не Маркиз, другой, но тоже венесуэлец. Так он до того уж весь засекреченный, как все равно сейф.
— А зачем ты связываешься с таинственными иностранцами? Тебя кто-нибудь просил? Или лучше вот что мне скажи: ты полицейские романы любишь?
Она немного помолчала:
— Нет, мне их читать скучно. Я ведь все предчувствую заранее, еще до середины не дойду, а уже знаю, кто убийца.
— Ах, так ты, значит, очень чуткая.
— Да, очень. А правда, что ты можешь предсказывать будущее по руке?
— Хиромант? Я? С чего ты взяла?
— Я точно знаю. От этого я не могу тебе в глаза смотреть. У тебя глаза страшные. Вчера вечером, когда ты на меня глядел, мне казалось, будто я голая.
— А сейчас — не страшно?
— Сейчас нет. Чудная я, да? — Она взяла мою руку, приложила к своей груди, к сердцу. — Чувствуешь?
— Еще бы, чудо просто!
— Да я не про то, глупый. У меня сердце бьется по сто десять ударов в минуту. Говорят, это ненормально, я недолго проживу.
— И потому хочешь одним глотком осушить чашу жизни до дна?
Она смело уставилась на меня. Взгляд был чистый. Глаза темные, как жуки, с пятнышками светло-табачного цвета. Опустились веки.
— Видишь, не могу. Не могу смотреть на тебя.
— Но почему же, Фиолета?
— Ах, да, ты же не знаешь, как меня зовут. Но лучше зови так. Мне нравится. А что это — Фиолета? Цветок?
— Нет, один из видов морского полипа.
— Морского чего?..
— Полипа.
— А что это такое?
— Ну, будем считать, что цветок.
— Ты изучаешь цветы, ботанику?
— Нет, я только фиолетовед.
Она засмеялась, стала гладить меня ладонями по груди:
— Почему у мужчин соски? Зачем они им нужны?
— Для художников, я думаю. Как ориентиры.
— Ну, значит, у бога фантазия бедная. Можно было бы звездочки сделать. Или спирали.
Видишь ли, господь очень спешил, когда создавал пас Дело было в субботу, и он уже устал. Разве ты не замечаешь, у него же совсем нет вкуса?
Как это нет вкуса?
Конечно нет. Мне один испанец говорил: «Может ли тот, у кого есть вкус, создать одновременно гиппопотама и стрекозу, обезьяну с красным задом и орхидею?..»
— Да, правда, у него, бедняжки, нет вкуса. Но еще хуже, если б он был кубистом. Представляешь? Но знаешь что? Я совсем согрелась.
— Я тоже, можешь себе представить.
Пусть меня обвиняют в насилии, в измене другу, в чем угодно, но больше я выдержать не мог. Из недр моего тела с ревом восстал кроманьонец. Но негодница вывернулась пак угорь, соскользнула на пол, и через миг ее лукавая смеющаяся мордочка выглядывала с другой стороны.
— Тебе со мной не справиться, видишь? И потом, я же сказала — сначала я хочу принять душ.
— Ничего подобного ты не говорила. А хочешь, я тебе помогу намылиться?
Она сморщила носик, надела мой халат, я завернулся в простыню, и мы на цыпочках прокрались по коридору и ванную. Никто нас не видел. Через полчаса мы вернулись, весьма довольные друг другом, тихие, примиренные и с богом, и с дьяволом.
Я снова улегся и занялся созерцанием Фиолеты, пока она одевалась. Видя ее в платье, даже представить себе невозможно, до чего очарователен этот звереныш.
— Как ты теперь обо мне думаешь, очень плохо? — спросила она, свертывая чулок, чтобы надеть.
— Ничего я не думаю. Глядя на тебя, думать не хочется. Хочется совсем другое, а вовсе не думать.
— А, ну тогда хорошо. Только не воображай, будто я забыла.
— Что забыла, намыленная ты особа?
— А ты хвастунишка. — Она сделала презрительную мину. — Я не забыла, я обещала тебе Гогена. Ты только посмотри на эти стены. Прямо жуть берет, до чего ж некрасиво! Но ему ты ничего не говори, вот это уж непременно. — Она натянула второй чулок. — Поклянись, что ничего не скажешь!