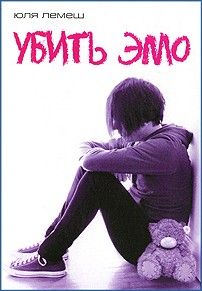– Теперь дома сидеть будешь?
– Не мечтай, – Танго продемонстрировал нелепую вязаную шапочку с ушами, в которой он смотрелся как мой Митька.
– Сам связал!
– Я и не сомневалась, – пускай примет это как комплимент.
– Я жалею тебя, девочка. И я горжусь тобой. На таких как мы держится мир. Ты знаешь, я тут подумал, может, ну это все к черту. Прости меня, Господи. Уеду. У меня родня в Калининграде есть. Продвинутый город. А главное, там меня почти никто не знает.
– А как же университет? – вклинилась я в монолог.
– У тебя выросли вторичные половые признаки, – бесцеремонно уставясь на мою грудь, признал Танго.
– Пошляк.
Он продолжал рассматривать как ни в чем не бывало.
– Гнусный извращенец.
– Через пару лет ты станешь похожа на дойную корову. Странное дело, низ – тощий, а тут понавы‑ростало всего. Кошмар. Дашь посмотреть?
Интересно, а если я сейчас просто уйду, хлопнув дверью, он поймет? Думаю, да. Хотя не уверена.
– Не дам. Завтра будет атомная война, и весь мир полетит к черту!
Танго вытаращил на меня глаза. Услышал.
– Прости, Господи. Кто тебе сказал?
– Я люблю тебя. После разговоров с тобой я начинаю любить весь мир.
– А нельзя ли остановиться на первом изречении? – скромно спросил Танго.
– Можно. Но не нужно. Ты же знаешь, что пока я не умею любить так, как нужно тебе.
Ошалевший от моего утверждения Танго развел руками. Я иногда подозреваю его в склонности к однополой любви. Как‑то он на полном серьезе мучился, что не может знать наверняка, голубой он или нет. Целый год мне мозги засирал. Но сам так и не определился. Хотя при такой мамаше несложно разлюбить весь женский род.
– Эмо с такой грудью – это не эмо.
– Стриженый эмо – вылитый скин, – рассердилась я.
– Челку жалко. Ты поосторожнее. Говорят, они и девчонок скальпируют. Так я поеду? В Калининград.
– Лети, попутного тебе ветра, – пожелала я и бодрым маршем удрала в направлении дома.
Никуда он не уедет. У него грандиозные планы, связанные с учебой. Кроме того, я думаю, он теперь будет долго страдать по челке. А как отстрадается, забудет, что собирался уехать.
Несчастный Митька сидел на горшке и тужится. Ему велели покакать, и он старался вовсю. Как и ожидалось, мама вперилась в телевизор, а брата сослала на горшок, чтоб не мешал смотреть.
Митьке стыдно. Он уже не маленький. Ему уже пять лет. Кроме того, покакать все равно не получается. Думаю, это из‑за того, что он до двух лет носил памперсы.
– Стася пришла, – заорал брат на всю квартиру, надеясь на амнистию.
А в ответ – тишина. Заглянула в комнату, которую мама уперто титулует гостиной. Обеденный стол, на котором вместо обеда валяется всякий канцелярский хлам. Книги, газеты вперемешку с блокнотами. В которые мама записывает что купить и что сделать. И потом в магазине спохватывается, что забыла их дома. А сама все время твердит: «Я никогда ничего не забываю».
– Мама. Я слышала по телевизору, что из мальчиков, которых заставляли по часу сидеть на горшке, получаются голубые. Там профессор один выступал. Из Америки.
Использовать мамину веру в правдивость телевизора и Америки неправильно, но Митьку жалко.
– Сними его с горшка, сделай хоть раз что‑то полезное, – потребовала мама.
Она не в состоянии оторваться от телевизора. Там показывают про полную отстоя выдуманную взрослую жизнь.
Митька пытался отцепить себя от прилипшего горшка и орал от невозможности это сделать самостоятельно.
– Ори, Митька, ори, пока можно. Потом будешь страдать молча, как все.
– Ты что, стерва, над ребенком измываешься? – Мама отлипла от ящика и принеслась спасать вопящего необосранного детеныша.
– Пускай покричит. Может, певцом станет, – утешила ее я, отступая в комнату.
– Дебилом он станет. Как и ты! Как можно угробить свою жизнь на такую дочь? Ты – мразь!
– Она не мразь. Стася – хорошая.
От волнения к глазам подступили слезы. Мой брат меня защищает! Значит, не так все и скверно.
На днях пересеклась с Вайпером. Спорили до усеру. С Вайпером всегда так. Как встретишься – голос сорвешь.
Он у нас теоретик. Такая порода эмо. Ему непременно нужно подо все подвести идейную базу. Иногда мне кажется, что, когда Вайпер мучается поносом, он и тогда выстраивает логические цепочки. Типа, мировая экономика летит к чертям из‑за ухода от натурального обмена. Значит, необходимо отказаться от денег. Тогда все люди будут вынуждены бороться за качество продуктов. И тогда никто не сожрет порченую химическую колбасу. И, следовательно, не обдрищется.
Но, скорее всего, его рассуждения ограничатся размышлениями о том, какой он, бедняжка, несчастный. Однако! Во всем надо искать полезные аспекты. А в поносе они тоже есть – когда он случился дома, где есть сортир. Двойной очистительный аспект. Очищение души через страдание и очищение организма через отравление.
Клево!
Вообще, Вайпер вовсе не дурак, но иногда порет такую чушь, что уши вянут. Например, загнул идею, что, мол, русские эмо скоро выскочат из возраста подростков.
– Поверь мне на слово, я уже знаю несколько экземпляров старше двадцать пяти, которые приняли идею эмо. Вполне успешные люди. И не корчи рожи, – упрекнул он, заметив, что меня коробит от слова «успешные». – Так вот, Стася, старшее поколение прекрасно вписывается в эмо. Им до смерти надоел их запрограммированный меркантильный мир. Их заставляют одеваться по установленным стандартам, иначе они вылетят из фирмы, им навязывают правила поведения и ставят им цели. К которым они непременно должны стремиться. Карьерный рост выматывает их до отупения. И тут, представь, они узнают про нас. И вспоминают, что разучились чувствовать. Для них быть эмо – единственная отдушина. И они ее не упустят.
– Как тебе известно, эмо тоже навязывают свои стандарты. Значит, скоро подрастет молодое поколение, которое посчитает нас отстоем?
– А то. Интересно, что они вместо нас придумают? Но принцип жить не только умом, но и эмоциями останется. Потому что он верный.
Вайпер картинно откидывает челку, отчего становится похож на строптивую породистую лошадь. Сейчас мне он кажется не лучше моей мамы. Они оба подсели на нравоучения. И они слишком боятся глупо выглядеть. Мне нестерпимо хочется вывести его из себя. Так чтоб он взбесился. Чтоб перестал быть умником хоть на минуту. За нос схватить? Не получится, он верткий, а я медлительная. А если улучить момент, когда он задумается? Надо попробовать.
– Ты что это задумала? – моментально спохватывается подозрительный Вайпер.
Ну и не больно‑таки хотелось. У него кожа на носу блестит. Все равно бы выскользнул.
– Вайпер, а если я тебя цапну за нос, что будет? Минута гробового молчания. Но глаза у Вайпера заметно вытаращилась. Он на всякий пожарный случай небрежной взвинченной походкой отступает, а я следую за ним.
– Стасечка, так нельзя!
Он испугался! Я преследую его шаг в шаг и пристально всматриваюсь в блестящий вайперовский шнобель. Который стал еще более бликующим.
– Вайпер, тебе что, жалко? Ну один разик? Я просто сделаю вот так, – показываю двумя пальцами что именно его ожидает.
– Вот дура какая. И что на тебя нашло? Загнанный в угол, Вайпер беспомощно озирается по сторонам. Он прекрасно понимает, что убежать можно, только отодвинув меня в сторону. А прикасаться к такой опасной особое ему страшно. От безысходности у него просыпается чувство юмора.
– А больше ни за что потрогать не хочешь? – Он начинает расстегивать молнию на брюках.
Я с диким воплем отскакиваю.
– Жадина‑говядина, пустая шоколадина! Нос ему жалко, а за пиписку – держись кому не лень. Я такого от тебя не ожидала!
Вайперу смешно. Больше всего ему нравится, что он съюморил и я это оценила. Так родилась новая шутка, понятная только нам двоим. Легкая пантомима. Я слегка прикасаюсь двумя пальцами к носу, а Вайпер в ответ хватается за молнию. Мы смеемся, а остальные не понимают почему. Здорово.
Теперь Вайпер находится в полном согласии с миром и с собой. Теперь его снова потянуло на болтовню. Я пытаюсь остановить его словоблудие вопросом:
– Вайпер, а твои родичи тебя любят?
Ему грустно. Но какая‑то ехидная искра сверкает в глазах:
– Очень. Души во мне не чают. Я им такие истерики закатываю. Они считают меня жутко ранимым и говорят, что все гении очень сложные натуры.