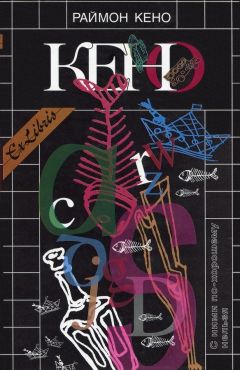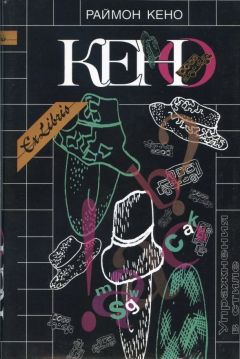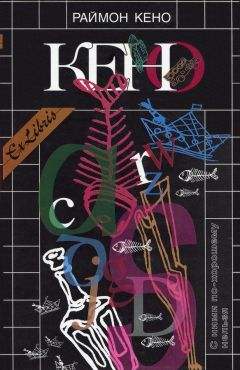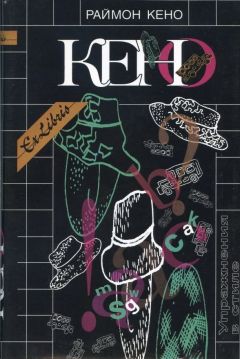Он сел, поставил винтовку между ног, машинально протянул руку, взял бутылку уиски и хлебнул как следует, после чего хлебнул еще раз, почти как следует.
— Какие двое мерзавцев? — спросил он снова и огляделся.
Восходило солнце. Как быстро пролетела ночь. И по-прежнему эта тишина, по-прежнему эта британская невозмутимость. Черт побери этих англичан, которые размусоливают наше восстание своими скрытыми лицемерными подвохами!
Каллинен чувствовал, как где-то в верхней части легких или в нижней части трахей, короче говоря в зобу, от страха спирало дыхание.
Он огляделся, заметил Галлэхера и Кэффри, дремавших возле груды пустых пивных бутылок и искореженных консервных банок.
— Эти? — прошептал он.
— Нет, — ответил Маккормак.
— Почему ты покинул пост у двери англичанки? — спросил О’Рурки.
— Я же сказал, что закрыл ее на ключ, — раздраженно ответил Каллинен. — Так что за двое мерзавцев? — спросил он снова. — Что за двое мерзавцев?
— Кажется, ты получил приказ сторожить девушку, — сказал О’Рурки.
Каллинен чуть не поправил его: «Она уже не девушка», — но вовремя удержался.
— Может быть, хватит ей сидеть взаперти? — сказал Маккормак.
— А если она будет подавать сигналы через окно? — заметил О’Рурки.
— Надо закрыть ее там, где она была сначала, — проворчал Кэффри.
— Ладно, — сказал Каллинен, — я пошел.
— На одного человека меньше, — сказал Маккормак. — А здесь нам будут нужны все.
— Пускай сидит здесь, рядом с нами, — сказал Галлэхер. — Будем все за ней присматривать.
— А это мысль, — сказал Маккормак.
Каллинен очень быстро отреагировал (так быстро, что это нельзя даже назвать «отреагировал»): не дожидаясь реплики О’Рурки, он помчался за Герти. На пороге все же остановился и спросил:
— Что за двое мерзавцев?
Ответа он не услышал.
XXXIVУ Каллинена не было полной уверенности в том, что один из мерзавцев — не он сам. Но кто в таком случае другой? Кто это и что он такое сотворил? Нет, про него, Каллинена, они ничего не могли знать. Правда, кто-нибудь мог подслушивать под дверью. Но в этом случае Маккормак разорался бы не на шутку. Поскольку — если уж говорить о корректности — то, что сделал он, Каллинен, — более чем некорректно. Хотя в этом не только его вина.
Подойдя к двери, он вынул из кармана ключ, но рука дрожала, и ключ заплясал вокруг скважины. У теряющего терпение Каллинена пересохло во рту. Он прислонил винтовку к стене, нащупав левой рукой отверстие, всунул в него ключ и повернул ручку. Толкнул дверь, та медленно открылась. О винтовке он сразу же забыл.
Солнце уже взошло, но все еще пряталось за крышами. Сочился слабый серо-рассеянный свет. Тянулись облака. Нежно краснели мансардами дома вокруг Тринити-колледжа. Герти, согнув ноги, лежала на столе, на котором ее оставил Каллинен, и вроде бы спала. Оправленная юбка была опущена ниже колен. Коротко остриженные волосы лохматились отчасти на лбу, отчасти на сукне стола.
Каллинен приближался бесшумно, но — и явно сознательно — не совсем беззвучно. Девушка не шевелилась. Она дышала медленно, ровно. Каллинен остановился, склонился над ней. Ее глаза были широко открыты.
— Герти, — прошептал он.
Она посмотрела на него. Инсургент не смог ничего прочесть в ее глазах.
— Герти, — прошептал он снова.
Она продолжала на него смотреть. Инсургент не мог ничего прочесть в ее глазах. Она не шевелилась. Он протянул к ней свои большие руки и взял ее за талию. Потом медленно передвинул руки к груди. Так он и знал: корсета она не носила. Эта особенность, в дополнение к необычно короткой стрижке, сильно смутила Каллинена. Он почувствовал у нее под мышками тесемки бюстгальтера: эта бельевая деталь сконфузила его окончательно. Все эти женские штучки показались ему чарующими и подозрительными одновременно. Так, значит, это и есть последняя мода, но как простая барышня с дублинской почты умудрялась следить за модой в разгар военных событий? Ведь все это зарождается где-то в Лондоне, может быть, даже в Париже.
— И о чем же ты задумался? — прошептала вдруг Герти.
Она улыбалась ему ласково, немного насмешливо. Застигнутый врасплох, Каллинен отдернул руки и отпрянул, но Герти удержала его, сжав коленями, затем, скрестив ноги, притянула к себе.
— Возьми меня, — прошептала она.
И добавила:
— Продолжительно.
XXXV— Значит, — сказал Келлехер, — Маккормак разозлился? Как будто сейчас время думать о таких вещах.
Диллон задумчиво чистил ногти, Келлехер поглаживал «максим». Восходящее солнце заиграло на его металлических частях.
— Все по-прежнему тихо, — заметил Келлехер. — Интересно, мы когда-нибудь начнем воевать?
Диллон пожал плечами:
— Нам крышка.
И добавил:
— Они дождутся, пока мы раскиснем, а потом начнут размазывать нас по стенкам.
И подытожил:
— Нам крышка.
Затем, сменив тему, заявил:
— Маккормак явно переборщил.
— Насчет чего? — спросил Келлехер.
— Насчет нас двоих.
— Он нас в чем-то подозревает.
— Это его не касается! Занимался бы девчонкой и оставил нас в покое. Но он, видишь ли, не решается, ну и вот, и старается думать о чем-то другом.
— Галлэхера так и трясло от нетерпения.
Диллон пожал плечами:
— Дурачок. Ничего они не сделают этой девчонке, они все такие кавалеры, ну, может быть, за исключением Галлэхера. Но остальные ему не позволят. Конечно, это их изводит, но они ни за что не осмелятся. В их руках она останется целой и невинной.
— В наших руках она бы чувствовала себя еще целее.
Диллон снова пожал плечами.
— Скорее бы уж начали воевать, — вздохнул он, — хотя на самом деле я это дело не очень люблю. Видно, я действительно люблю свою Ирландию, если занимаюсь подобными делами. Скорее бы началось.
Он встал и обнял своего товарища. Келлехер, оторвавшись от созерцания пулемета, на секунду полуобернулся и улыбнулся.
XXXVIПо радио передали сообщение командору Картрайту. «Яростный» должен стать на якорь перед Рингс-Энд. Британская атака начнется в семь часов. В десять часов очередное сообщение укажет «Яростному» занятые мятежниками стратегические объекты, которые ему следует обстрелять.
— Если они еще останутся, — заметил Маунткэттен, которому Картрайт передал приказ.
— Все скоро закончится. Побережем снаряды для подводных лодок гуннов.
— Хотелось бы верить, — сказал Маунткэттен.
XXXVII— Что он там копается? — проворчал Маккормак. — Его все нет и нет.
— А может, он ее трухает, — сказал окончательно проснувшийся Кэффри.
— Ты хочешь сказать, что он ее трахает, — прокомментировал Галлэхер.
Он громогласно хохотнул и хлопнул себя по колену.
— Заткнитесь, — сказал О’Рурки. — Подонки.
— О! О! — отозвался Кэффри. — Ревнуешь?
— Каллинен на такое не способен, — сказал Маккормак. — Да и не слышно ничего. Если бы у него возникли недобрые намерения, она бы закричала.
— А может, она и сама не прочь. Представь себе, что она сама предложила! — сказал Кэффри Галлэхеру.
Оба засмеялись.
О’Рурки встал.
— Подонки. Подонки. Заткните свои похабные глотки.
— Можно подумать, медики не похабничают. Ханжа. Ты, видно, этой ночью перемолился святому Иосифу.
— Хватит! — внезапно завопил Маккормак. — Мы здесь не для того, чтобы препираться. Не забывайте, что мы здесь для того, чтобы сражаться и наверняка умереть за независимость нашей страны.
— А в это время, — заметил Кэффри, — Каллинен вставляет за милую душу англичаночке. Послушайте.
Они замолчали и услышали серию коротких мяуканий, которые мало-помалу перешли в продолжительные стенания, прерываемые неравными паузами.
— Действительно, — прошептал Галлэхер.
О’Рурки побледнел до позеленения.
Вмешался Маккормак:
— Да ладно вам, это кошка.
О’Рурки, не желая расставаться с иллюзиями, поддержал:
— Конечно, кошка.
Галлэхер, по-идиотски улыбаясь, повторил:
— Ну да. Кошка. Или кот.
Кэффри усмехнулся:
— А эта краля, небось, дергает его за кончик... хвоста. Бедное животное. Пойду посмотрю.
Он вышел из комнаты. Послышалась целая серия учащенных пронзительных стонов; потом воцарилась тишина, настороженная и поражающая. В эту минуту Кэффри подходил к двери. Винтовка Каллинена одиноко стояла на посту. Кэффри вошел. Все уже закончилось. Каллинен дрожащими пальцами застегивал штаны. Герти уже поднялась; она буквально сияла от удовольствия. Пленница вызывающе посмотрела на Кэффри. Кэффри нашел ее красивой.
Но не нашел, что сказать.
Через несколько секунд, приведя себя в порядок, Каллинен спросил у него без малейшего намека на приветливость: