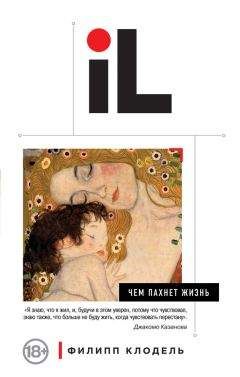Штаны для рыбалки
Pantalon de pêche
Корочка хлеба, агатово-твердая в середине, но крошащаяся по краям, коротенький обрывок черного шнурка, сморщенный и ломкий, оказывающийся при ближайшем рассмотрении высохшим тельцем земляного червя, щепотка глины, превратившейся в пыль, конфетка-драже, растаявшая и снова затвердевшая, чья шоколадная глазурь из коричневой стала серой, крышечка от пивной бутылки, скомканный носовой платок с прилипшими к нему рыбьими чешуйками, утратившими перламутровый блеск, початый моток лески – выдерживает 800 г, дюжина маленьких свинцовых грузил, пробка от масла – красно-желтая, поломанная, завернутые в фольгу остатки бутерброда с ветчиной, на диво сохранные, хоть и несъедобные, конверт со счетом «Электрисите де Франс» и квитанция об оплате, которую я так и не отправил, несколько мертвых личинок – продолговатые, темные, затвердевшие, они похожи на мышиное дерьмо, три жвачки с хлорофиллом, треснувший тюбик от лекарства, рулончик розовой туалетной бумаги, «Государь» Макиавелли в старом школьном издании, простой карандаш, длиной сантиметра три, весь искусанный, камень величиной с утиное яйцо – совершенно плоский, идеальный для пускания «блинов» по воде, список покупок: «Макароны, сливочное масло, салат-ромен, спички, сироп, 3 свиные отбивные на косточке, лампочки 60 ватт, соль для оттаивания, не забудь яйца!» – уже не помню, купил я все это или нет, резинка, оберточная бумага из-под наживки «Шарло», сохранившая анисовый запашок. Инвентаризация закончена. У штанов четыре кармана спереди, просторных и глубоких. Цвета у них нет. Наверно, давным-давно, от рождения и в молодости, они были цвета хаки или салатового, хотя салатовый, кажется мне, не очень подходит штанам для рыбалки, но, помнится, на рыбалку я носил их не всегда, это стало для них второй жизнью, чем-то вроде активной пенсии или поздней профессиональной переориентации. Они все в безобразных пятнах неизвестного происхождения и вообще грязные. С чего бы им, впрочем, быть другими-то. К тому же они еще и подмерзли, потому что я их не стираю и держу в неотапливаемой сараюшке в глубине нашего сада. Когда я влезаю в них после нескольких месяцев летаргии, они жесткие, как плащ бретонского моряка, и в этой их несгибаемости мне порой чудится упрек. Но я люблю их такими – неподатливыми, нестираными, набитыми черт-те чем, свидетельствующим одновременно об их предназначении и о рассеянности хозяина. Кто-то может подумать, что они воняют. На самом деле – ничего подобного, и мне самому это странно, если учесть, что им довелось пережить по моей милости и что в них можно найти. Мне как-то случилось даже забыть в кармане дохлую рыбу. Я нашел ее через несколько недель, высохшую и почти ничем не пахнущую, с потухшими глазами, похожую на кинжал. Так чем же пахнут эти рваные, штопаные, потертые, набитые всевозможным хламом штаны? Это удивительный дух мукомольни, подсобки мельницы, размолотого зерна и отрубей. Но настоящий их запах другой – запах счастливо заходящегося сердца. Запах простора, жизни без границ, свободы, вдали от всего, от всех, на берегах речек, в таинственной беседе с водой и ее зеркалами, с ее глубинами, эхом отвечающими моим собственным глубинам. То мутным, то прозрачным.
В холодный зимний день, часов в пять, когда дневной свет уже отступает и растворяется во взвеси опилок и пепла, вдруг хочется пойти в Круглый бассейн Нанси-термаль. Проходишь стеклянные двери, и влажность с серным душком окутывает тебя с головы до ног всеобъемлющим болезненным поцелуем. Покупаешь билет у кассирши, сидящей в стеклянном аквариуме, и невольно вспоминаешь о горькой участи золотой рыбки. Идешь по узкому коридору и слышишь гулкие отзвуки под куполом, далекие и очень легкие, а еще – голоса, не такие, как в обычной жизни, и плеск воды под руками пловцов и играющих детишек. Входишь в кабинку. Одну за другой, словно кожи, снимаешь слои одежды, вешаешь на вешалку. На улице мороз или снег, а ты голый. Что-то в этом есть шаловливое, этакое противотечение, дарующее скромное чувство свободы и фрондерства. Натягиваешь плавки и выходишь через другую дверь, ибо кабинки здесь – пограничная зона без таможни между двумя очень разными странами: одна, выложенная плиткой, – темноватая и сухая, другая – текучая, полная света, льющегося с высокого стеклянного потолка и касающегося голубой воды, отливающей зеленым, бежевым и серым по краям бассейна, под балюстрадой из огненного песчаника, добываемого в Рамбервилле. Изгиб и исцеление. Потому что бассейн круглый, а вода в нем термальная. Здесь не столько плавают, сколько плещутся. Смеются, болтают, щебечут. Здесь встречаются два края жизни: старики и еще – младенцы, познающие эту жидкую теплоту и ее ласку на руках матерей. Воздух как будто шелестит в этом нефе без алтаря, а слова и лепет вздымаются из огромного круглого чрева, в котором плавают люди, грезя о невидимом источнике, о земной расщелине, из которой бьет эта благодатная вода с лекарственно-гнилостным душком, чуть раздражающим капелькой хлорки – она пьянит, отгоняя чувство дремоты. Здесь всегда теплее, чем в других бассейнах, и можно плавать подолгу, не боясь замерзнуть, пребывая в самом сердце воды, в относительной невесомости, где душе легко воспарить, предавшись отдохновению, мечтам и смутной тяге к сочинительству. Нанси забыт. Ты уже в Будапеште или в Праге, где-то далеко в сердце Европы, и в другом времени. Быть может, совсем незадолго до большой бойни, еще в эпохе королевских семей и фиакров, и в абразивных парах воды можно дотянуться рукой до игроков в шахматы и пузатых курортников, рассуждающих о Тройственном союзе, покуривая «тоскани».
Писсуар нынче придется еще поискать. В городах Франции давно отменили право мочиться бесплатно. Некий столп градостроительства вспомнил рецепт императора Веспасиана. Мочеиспускание вновь обложено налогом, и надо бросить монетку, которая, конечно же, не пахнет. К тому же эти безобразные автоматические кабины, двери которых закрываются за вами с рыком гильотины, не имеют ничего общего с отхожими местами, украшавшими прежде парки, скверы и тротуары. Уединение в них драматично. Ты закрыт, не видишь дневного света, не слышишь посвистывания соседа, пристроившегося по тому же делу. А писсуары нравятся мне своей допотопной архитектурой – из кованого железа, тонкие, почти светски щеголеватые, сплошные мягкие изгибы или каменные, толстостенные, иногда из грубого бетона, зато надежные и нерушимые. Мочишься в них и слышишь шаги прохожих. Слышишь шум города, покинутого на минутку. Перебрасываешься с кем-нибудь парой слов. Некоторые изливают здесь еще и душу – кто в недвусмысленных, кто в маловразумительных граффити. Запомнилось, в частности, таинственное «Бубенчик, твоя россыпь моя». Иные назначают друг другу свидания, кадрятся, иногда даже занимаются любовью, яростно и поспешно. Это один из аргументов благонамеренных умов для закрытия писсуаров. Бьющие оттуда запахи меня не смущают, как и грязь внутри. Ведь, входя туда, прекрасно знаешь, что идешь не в цветочную лавку. Застарелая моча, экскременты, крезол и жавель – миазмы, выражающие весь наш жалкий удел. Здесь получаешь урок морали с минимальными издержками. Вдыхать все это – акт смирения и покаяния. Наш мир мечтает быть ничем не пахнущим, стало быть, обесчеловеченным. В предшествующие нашему века пахло все – и дурное, и хорошее. Мы объявили на запахи охоту, истребляем запахи наших тел, запахи наших городов, как преступников, слишком часто напоминающих нам, что наши выделения портят воздух. Помню, мальчишкой я захожу в уличный писсуар – там воняет. Я не удивляюсь и не смущаюсь, вовсе нет. Это зеркало, особенное, чуть кривое. Я узнаю, кто я есть. Иногда там вдобавок храпит клошар, наполняя тесное пространство запахами дрянного вина, немытого тела и черного табака. Я представляю себе, что это спустившийся к людям бог, замаскировавший свою истинную суть под лохмотьями. Превращался же Зевс в лебедя и в быка. Так почему бы не встретить его под личиной бродяги, на грязном полу уличного писсуара, блаженно храпящим в унисон с гудением мух? Но теперь мы ведь упразднили и богов.
Стукнуть кулаком по земле, как стучат по столу. Уже так давно назревает разрыв. Шли дни за днями, вязкие от нависшего неба и свинцовой жары, исчез в дымке горизонт, обессилел ветер, нервничают животные и люди. Даже ночь не приносит прохлады, изнемогая, как и день, под шкодливыми щупальцами влажности, вольготно, точно у себя дома, расположившейся повсюду и в любой час. Открываются настежь окна – без толку. А потом вдруг, за полдень, небо на севере, в стороне Сея, как будто натягивается и скрипит. Видны вспышки, еще приглушенные, словно какой-то шепчущий апокалипсис. Внезапно темнеет. Мне вспоминаются Страстные пятницы, когда мы всматривались в тучи: как-то они помянут Распятого на Голгофе? Грохот, свет, ярость. Топор молнии обрушивается на иву у пруда. Когда только успела?! Дерево расколото надвое, трепещет, обнажив белую плоть сверху донизу, словно светлое бедро выглянуло из разорванного чулка. Снова молния, на триста метров левее, ударила в опору электропередачи. Истерические зигзаги. Эфемерный автограф артиста-мегаломана. Молодые телки на лугу возле Пуле, сбившись в кучу, кидаются всем скопом к реке, но далеко не убегают – тупо останавливаются как вкопанные на косогоре, и больше ни с места. Шелест. Нарастающий. Это дождь, он уже накрыл полосатой завесой высокий берег Рамбетана и бежит дальше поднимающимся приливом, окутывает рощицы у Большого канала, заливает поля, подбирается к нашему дому, плещет в садах за ним. Кот ныряет под плоский камень, подпирающий дверь крольчатника. Падает капля, другая, первыми приглушенными нотами, возле курятника. И вот уже главные силы – частое косое войско безжалостно рубит лепестки последних тюльпанов, рвет нежные листочки вишен, глумится над пионами, заставляя склонить сливочные головки и прибивая их к земле, усеянной миллионами крошечных, величиной с ноготь, кратеров. Первобытная сеча. Обстрел. Водопад. Вода рассекает воздух, освежая его. Пасть чудовища дышит нам в лицо жарким дыханием тропиков. Крошечные речки катят свои бурые воды по аллеям и окутанные паром моря образуются у корней малинника. Чуть-чуть знобит – и поневоле улыбнешься, вдыхая здесь, где не достанет тебя гроза, дух этой сечи: перегной, болото, торф, соки растений, сладость венчиков лилий, чьи лепестки от слез выглядят как лохмотья, шерсть потревоженных животных, хором мычащих вдали, суп из земли, взболтанный трепетом зеленой лаванды, которая запахла, раззадоренная грозой, невесть откуда взявшаяся смола… и ветер, наконец-то налетев, берет свое, перемешивает все это с последними каплями дождя и гонит к востоку, где еще тишь да гладь в этот час, вороха клочковатых туч и раскаты грома.