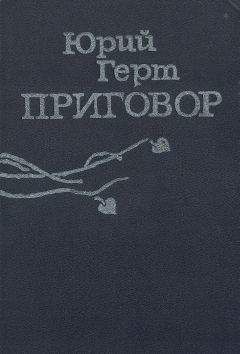— Ну, денек!..— Он все же нашел в себе силы улыбнуться Татьяне.— Фантастика!..— Он закрыл глаза и откинулся назад, запрокинув голову. Татьяна присела рядом с ним, на подлокотник. Он ощупью, не открывая глаз, нашарил ее руку и сидел, обхатив пальцами узкое запястье, как будто прислушивался к току крови, биению пульса... Татьяна не шевелилась, чтобы не нарушить этих нескольких минут покоя, за которыми еще должен был последовать разговор, ведь с утра они не перебросились наедине и парой слов... А пока она как бы со стороны украдкой посматривала на его лицо — и были мгновения, когда оно казалось ей чужим — чужим, незнакомым лицом чужого человека; она видела, какое оно серое, это лицо, с натеками под глазами, с множеством ветвящихся морщинок и складочек на пористой коже, какое оно старое, хотя она и боялась этого слова, рикошетом ударявшего по ней самой. Но скорее всего это просто усталость,— думала она,— скорее всего... Федоров перехватил ее тайком подсматривающий за ним взгляд, а со взглядом и ее мысли. Ее настороженность. Ее ожидание. Он еще не рассказал ей о встрече со следователем... Он и сейчас не спешил рассказать об этом. Он разжал ее руку, маленький, неплотно стиснутый кулак, и ладонью провел, погладил себя по отросшей за день щетине на щеке и подбородке.
— Все будет хорошо!— Голос его звучал одновременно и ободряюще, и виновато.— Все будет хорошо, вот увидишь...
В передней раздался звонок. Оба вздрогнули. И наверняка подумали об одном и том же. Федоров поднялся и открыл дверь.
На тускло освещенной площадке стояла девушка в черной курточке и джинсах. Густые темные волосы небрежно отброшены, назад, курносый носик решительно вздернут. Но на лице — ни обычного вызова, ни дерзкого прищура смотрящих в упор глаз, от которых Федорову каждый раз бывало неловко.
— Вы, Галя?..
— Я, Алексей Макарович... Уже поздно, только я ждала, чтобы от вас ушли. Я по делу.
Федоров открыл дверь, посторонился, пропуская одноклассницу сына Галину Рыбальченко, с которой Виктор, кажется, был дружен... Или как это у них называется...
— И вы столько времени ждали?.. Где же?..
— В подъезде, на улице — где же еще. Боялась пропустить, когда выйдут.
— Вот вы какая... таинственная,— пошутил Федоров. Он принял и накинул на вешалку легкую, как паутинка, курточку и провел Галину в свой кабинет.
Он знал, что жена с неприязнью относится к этой не по годам самостоятельной и слишком разболтанной девице, и его не удивила напряженность, которая возникла сразу же, едва они увидели друг друга. Лицо у Татьяны потемнело, взгляд серо-голубых, глаз сделался ледяным. Она не встала навстречу, не протянула руки. Однако Галина если и заметила это явное недоброжелательство, то никак не отреагировала на него.
Поздоровавшись, она поискала глазами, куда бы сесть, и подсела к столу, на котором стояли стаканы и чашки с недопитым чаем, стопки, бутылка с коньяком на донышке... Она ничего не замечала. Она присела на краешек стула, потерла зазябшие на улице руки и заложила их между сжатых колен. На ней был черный свитер в обтяжку, с узким валиком ворота вокруг высокой прямой шеи.
— Я по делу,— повторила она. И, помолчав:— Мне бы лучше с вами поговорить, Алексей Макарович. Без Татьяны Андреевны.— Начала она нерешительно, а закончила твердо.
Оба растерялись... от этой, этой... наглости, что ли, неделикатности... Явиться без предупреждения чуть не за полночь... и требовать отдельного разговора... Впрочем, обоих так измотал сегодняшний день, что сил не хватало даже для того, чтобы возмутиться этим.
— Галя,— с подчеркнуто мягкой, терпеливой интонацией произнес Федоров,— кажется, вы сказали, что пришли по делу?.. Мы слушаем вас.
— Ну, как хотите.— Она защемила зубами нижнюю губу, темно-вишневую, в чешуйках, то ли заветренную, то ли покусанную. И лицо у нее было такое, как если бы она говорила: «Я ведь только для вас. Мне все равно».
Тем не менее она продолжала сидеть молча, закусив губу.
— Может, чашку чая?— предложил Федоров.— По-моему, вы порядком продрогли, в подъезде-то, за три часа.
Она не ответила. Она еще с минуту посидела, помолчала, Потом повернулась к столу. Медленно, рассчитанным движением, сцедила остатки коньяка в пустую стопку, выпила, утерла рот ладошкой.
— Это они его убили,—сказала она, глядя куда-то в пространство расширенными, как бы разбухшими зрачками.
— Кого?..— спросил Федоров.— Кто и кого?..
— А вы не понимаете?..
Он понимал. Он понял это сразу, то есть что и кого она имеет в виду. Но не хотел, запретил себе понимать — в том смысле, что все это имеет прямое отношение к нему, к его сыну...
— Откуда вы это взяли, девочка?..— не свойственным ей надменным, презрительным тоном произнесла Татьяна.— Что вы такое... сочиняете?
— Он сам мне сказал.
Галина опять сидела в прежней позе, стиснув руки коленями. Глаза ее потухли, лицо стало серым. Она ежилась, как на сквозняке.
— Слушайте, Галя,— вяло улыбаясь, проговорил, Федоров и, подойдя к столу, слил к себе в стопку застрявшие в бутылке редкие капли.— Это уже... Трудно и слово-то подобрать... Психоз какой-то, что ли. Тут до вас, до вашего прихода разговор был. Теперь вы. Может, перестанем паниковать? И будем считаться только с фактами?.. Идет следствие, это факт. Но мало ли кого и в чем можно заподозрить...
— Он мне сам об этом сказал.
— Кто сказал?
— Он, Виктор.
— И о чем... О чем же он вам сказал?— Федоров чувствовал, что теперь и в его голосе — нарочито холодном, бесстрастном — трепещет злость. Ему хотелось схватить эту девушку в охапку, вышвырнуть па площадку и захлопнуть дверь.
— Он сказал, что они... Они...
Она не могла выжать, выдавить из себя следующее слово.
Федоровы переглянулись. И снова — как утром, в аэропорту — ему показалось, что у Татьяны вместо лица — гипсовая маска. Он подошел к окну, распахнул створку. Но не ощутил — ни облегчения, ни даже прохлады. Тело его, казалось, наполнено горячим туманом, вот-вот оно отделится от пола, поднимется в воздух, выплывет из комнаты, как легкий сигаретный дымок...
— Расскажите все, что вы знаете... Что вам он сказал? И когда это было?..
— В тот же день, когда все и случилось. Третьего марта. Пришел, вызвал во двор... и все рассказал.
— Третьего марта?..— Федоров пожал плечами, недоверчиво усмехнулся.— Но третьего марта, вечером, он был дома?..— Он посмотрел на жену, потом перевел глаза на Галину.— Я работал вот здесь, а они все трое, Виктор, Ленка и Татьяна Андреевна, смотрели телевизор. Правильно я говорю?— Федоров снова повернулся к жене.
— Правильно.— Татьяна продолжила не сразу, и ее заминка царапнула Федорова.— Только это было после того, как он вернулся.
— То есть когда же?
— В десять, в начале,одиннадцатого... Точно не помню.
Она это очень просто сказала. Сказала — как отмахнулась.
— А до этого? Ты знала, где он был до этого?..
— Да, он был у Гали.
— Но мне ты об этом не...
— Разве ты спрашивал?..
Пожалуй, так. Не спрашивал. Но тогда откуда он взял, что Виктор весь вечер...
Тяжело ступая, он подошел к столу, натолкнулся взглядом на стопку, в которую сливал остатки. Причмокнул, как дегустатор, пробуя на вкус. Зажевал ломтиком лимона.
— И что же? — Он сел, вытянул пачку сигарет из кармана, достал одну. Татьяна было рванулась к нему, но поняла — сейчас ее вмешательство бесполезно.— Что он сказал вам, когда пришел? Что вам известно? Как видите, Галя, вам вообще известно о нашем сыне гораздо больше, чем нам...
Она все время сидела на стуле — съежившимся, иззябшим зверьком, и тут вдруг откинулась на спинку. Глаза ее были закрыты, длинные черные ресницы сомкнуты, в подглазьях лежала густая тень. Теперь, только Федорову бросилось, какое замученное, опавшее у нее лицо. Между разжатыми губами блестела нитка белых зубов. Казалось, она не дышит.
Ему стало гадко за свой тон — кто он, следователь?.. Ведь она, эта девчонка, пришла сама, мыкалась целый вечер на улице, в подъезде, дожидалась... И сейчас была последним, звенышком в цепочке между ними и их сыном.
Татьяна, была уже около нее, склонилась, гладила по узенькому, совершенно еще детскому плечу, пыталась оттянуть пальцем, ослабить на горле ворот свитера... Минуту спустя Галина пришла в себя. Она поморщилась в досаде на свою слабость, отодвинула руку Татьяны. В померкших было глазах замерцали, вспыхнули искры.
— Со мной все в норме,— сказала она.— Витьку... Витьку надо спасать!
И почти ярость, почти ненависть проступила в том, как она это сказала. Она их ненавидела, презирала в этот момент — за то, что они, взрослые люди, ничего не в состоянии понять, уразуметь. Но потом ее презрение сменилось чем-то вроде снисходительной жалости.
— Это очкарик, подлюка, их заложил, больше некому. Он все видел. Там, в сквере, против филармонии. На Броде, так это место у нас называется.