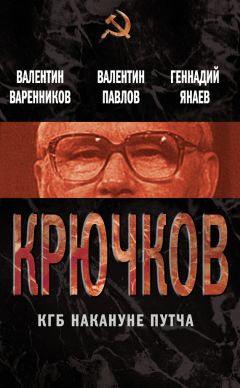Аристархов вздумал навестить сослуживца по Афганистану, жившего на Украине. Через несколько часов, после того как переполненный дымно-потный поезд отвалил от Киевского вокзала, по вагонам заходили люди в синих мундирах с непонятными трезубцами в петлицах. Они живо интересовались паспортами, но главным образом, что у кого в сумках. Поехал к другому — инвалиду — в Даугавпилс, то же самое сразу за Великими Луками. Россия странным образом съёживалась, хоть на отъёживающихся от неё пространствах повсеместно проживали русские люди. Это было удивительно, потому что людей было много, сила же, отъёживающая от России пространства, проистекала единственно из слабости проживающих на этих пространствах людей. Впрочем, капитан Аристархов сам был летающей частицей необъяснимой русской слабости. «Ты в Сибирь поезжай! — хохотнул круглолицый. — Там точняк не разбудят». Но оказавшийся поблизости третий объявил, что недавно ездил, ещё как будят, то татары, то башкиры, то буряты…
Круглолицый летал в спарке с Аристарховым. «Как тебя немцы отпустили из Германии? — недоумевал он. — Они товар чуют!»
Обычно Аристархов остро ощущал временность своего очередного жилья. В подмосковной же монастырской келье как-то прижился. Обычно он мечтал, что следующее жильё наконец-то будет постоянным. А тут как будто и не надо было никакого следующего. Как будто весь оставшийся век Аристархову было назначено провести в одиночестве в келье.
Капитана мало волновали происходящие в стране политические события. Аристархов наверняка не знал: то ли в нём, то ли в стране перегорела жизнь? Хотя, конечно, вряд ли она окончательно перегорела. Скорее потускнела, подёрнулась мусором и пеплом, как это обычно случается, когда в жизнь входит слишком много нищеты и страданий. Аристархов был уверен, что вскоре лампочка ослепительно вспыхнет, а затем засветит каким-то совершенно иным светом. Вот только каким именно — дневным, ночным, медицинским, тюремным, мигающим, как в вертолёте, когда десанту прыгать, — он не знал. И себя Аристархов не видел ни в нынешнем тусклом, ни в будущем ослепительном, ни в последующем неизвестно каком свете. Так что, по всей видимости, жизнь всё-таки перегорела не в стране, а в двадцатидевятилетнем капитане Аристархове.
Что, впрочем, не мешало ему летать. Более того, Аристархову казалось, что только в воздухе он и живёт. Должно быть, в следующей жизни ему было назначено сделаться птицей. Или же в жизни прошлой он был недолетавшей, скажем, подстреленной из арбалета, срезанной соколом или коршуном птицей. И сейчас навёрстывал, долётывал.
Как бы там ни было, его мало интересовал зачастивший в полк человек по фамилии Тер-Агабабов. Он был вхож к генералу, но куда охотнее и доверительнее общался с круглолицым старлеем, чья оклеенная голыми бабами келья находилась по соседству с аристарховской. Монастырская стена как будто противилась голым глянцевым бабам, выдавливала из себя гвоздики, отчего углы плакатов заворачивались и бабы как бы прикрывали стыд. Пару раз старлей приводил Тер-Агабабова к Аристархову. Тер-Агабабов ставил на стол коньяк, они выпивали, говорили, о чём обычно говорят за выпивкой мужчины. Тер-Агабабов производил впечатление умного человека и — что гораздо важнее — человека не пустого, то есть человека, у которого есть идеи и дело. Вот только что это за дело, что за идеи — Аристархову не хотелось выяснять. Несколько раз он заставал Тер-Агабабова на лётном поле, наблюдавшего за полётами. Прямо на лётное поле за Тер-Агабабовым подавали новейший «вольво-960». Аристархову было доподлинно известно, что это весьма дорогая машина, в Европе на ней ездили редкие люди.
Между тем полётов, занятий и прочей работы в полку становилось всё меньше и меньше. Два месяца не выплачивали жалованья. Аристархов или уезжал в Москву, или проводил время на стадионе, или лежал в келье на койке, читая немецкие газеты и журналы. Вероятно, это было в высшей степени непатриотично, но ему было естественнее читать немецкую, нежели российскую, периодику. Под возмущённой, переливаемой из пустого в порожнее чистой или грязной водой мыслей и фактов в немецкой периодике всё же угадывалось некое твёрдое дно, ниже которого опуститься было невозможно. Наличие этого самого твёрдого дна сообщало пусть противоречивый, но законченный смысл картине, конечно же, несовершенного мира. В немецком мире тем не менее можно было существовать. В российской периодике понятия чистой воды и твёрдого дна отсутствовали. Вместо них — некая слепая взвесь, взбаламученный, засоряющий читающую душу ил. Периодика, не воссоздающая хотя бы и в несовершенстве, но засоряющая картину мира, не заслуживала, по мнению Аристархова, того, чтобы её читали. В современном капитану русском мире существовать было невозможно.
Однажды после очередной задержки жалованья к Аристархову в келью наведался круглолицый старлей, бросил на стол пачку голубых пятитысячных в полосатой банковской упаковке.
— Вертолёт продал? — предположил Аристархов.
— Ездил с Тером в банк, — ответил старлей, — сказал ему, что нам зарплату не платят, он и дал.
— На весь полк? — удивился Аристархов.
— На весь полк. Сказал, раньше надо было говорить. Командованию и нам с тобой, — разорвал ленту на пачке старлей. — Нормально? — отделил на глазок половину.
— А отдавать когда?
— Что? — не понял старлей. — А… Тер сказал, когда Россия разбогатеет. Сказал, сочтёмся славою, ведь мы своц же люди…
— И пусть нам общим памятником будет построенный в боях Азербайджан? — усмехнулся Аристархов.
— Кто его знает, может, и Армения? — возразил старлей.
— Благодарю, — отверг чужие деньги Аристархов. — Обменяю марки.
— Давай куплю, — немедленно предложил круглолицый. — Какой сегодня курс?
Москва после обмена марок на рубли представала сказочно дешёвой и доступной. Аристархов невольно сопоставлял что почём в Европе и здесь. Ощущение иррациональной дешевизны при отсутствии у людей денег сообщало окружающей жизни нереальность истаявшего миража, который, впрочем, был настолько реален, что казалось, мираж вечен, а вот поверившие в него люди непременно истают, как глупые снеговики среди горячих — с нулями — ценников. Аристархов отмечал намётанным взглядом и дрянное качество товаров и продуктов, и что продавалось в основном то что давно прошло на Западе все стадии уценки, то есть товары и продукты из корзин и ящиков с внутренних дворов супермаркетов, хорошо полежавшие на складах у оптовиков в Польше и Турции, одним словом, товары даже не для Румынии и Албании — для сомалийцев, кампучийцев, эритрейцев, для гуманитарной помощи или помойки.
В то же время и хищненьким был мираж. Где-то за что-то платил Аристархов. В бумажнике, видимо, мелькнули сиреневые с железным волосом стомарковые банкноты. Тут же — от кассы, — совершенно не таясь, двинулись за Аристарховым двое и крайне огорчились, когда он сел в свой подержанный, обеззеркаленный и обездворниченный «форд» да и уехал. Или девчоночка лет пятнадцати, не больше, подкатилась к нему на людной улице, зашептала на ухо что-то запредельно-похабное, позвала в подъезд, где якобы жила. Аристархов ухватил её за руку, увидел, что в руке у неё зажат газовый баллончик, который, она, значит, собиралась употребить против него в этом самом подъезде.
— Отпущу и никому не скажу — пообещал Аристархов, — кто там в подъезде? Твои ребята?
— Подружка, — не стала скрытничать девчонка, — но здоровая, как бульдозер. Без мужиков обходимся. Курточка у тебя нормальная…
В московских ресторанах и казино отсутствовало ощущение того, что делает во всём мире рестораны и казино местами, где приятно проводить время. А именно — ощущение безопасности.
От нечего делать Аристархов посетил несколько политических собраний.
Он не подозревал в себе образного мышления, но после выступления нервного, худого, в очках и в заношенном свитеришке экономиста, положение в стране увиделось ему как на театральной сцене. В дальнем захламлённом углу сцены российский вертолётный полк, несколько месяцев не получающий зарплаты. В центре же — Тер-Агабабов, даже и не гражданин России, без проблем берущий в российском банке миллионы. Каким-то образом жизнь в стране устроилась так, что все, кто производил, добывал, строил, служил, воевал, одним словом, работал в поте лица своего, оказались вне денег. В то же время некая невидимая загадочная сила легко проводила людей, подобных Тер-Агабабову, сквозь посты военизированной охраны, сквозь стены и железные двери, электронные пиликающие замки к самым сладко гудящим, позванивающим, печатающим и разрезающим длинные денежные листы гознаковским машинам, где эти люди сколько хотели, вернее, сколько им было нужно, столько и брали. Труд и деньги существовали порознь. Труд не обещал ничего, кроме нищеты и невыплаты зарплаты. Деньги добывались в Зазеркалье, решительно не связанном с трудом и материальным производством. Одни — Тер-Агабабов — входили в Зазеркалье легко, как купальщицы в воду. Другим — Аристархову — путь туда был изначально заказан. Сотни дверей вели в Зазеркалье, но люди, подобные Аристархову, как будто их в упор не замечали, а если и замечали, то почему-то считали ниже своего нищего достоинства входить.