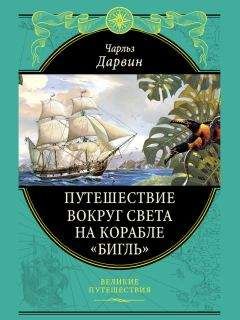А в Коломне один из краеведов и посоветовал Ковригину познакомиться с книгой ксендза Павла Пирлинга (наверняка её, изданную в 1908-ом году, сказал он, можно получить в Москве, в Исторической библиотеке). Тогда он и зачитал практиканту выписанные из книги слова: "По страшному пути пришлось пройти молодой, одинокой женщине. Условия, среди которых она жила это время, были самыми ужасными. Неужели, испытав всё это, Марина не может рассчитывать на снисхождение ввиду обстоятельств, смягчающих её вину? Нет, справедливость требует, чтобы судьи считались с этими данными, по крайней мере до тех пор, пока не будет произведено дополнительное следствие"…
На четвертом курсе, по нынешним его представлениям, Ковригин дурью маялся: пытался писать сценарии и пьесы, были причины, водил шуры-муры со студенточками из театральных вузов. Одна из них теперь Звезда, и именно для неё (или ради неё) Ковригин начал выводить на бумаге диалоги с ремарками. То есть поначалу он намеревался сочинить драму о Дмитрии Самозванце, но, перечитав все пьесы, написанные о нём (и Островского, в частности), понял, что ничего нового не создаст. Да и представления у него о многом, и о Смуте тоже, были самые приблизительные. Стал ходить на интеллектуальные "игры" студенческого общества историков (из пединститутов), часы просиживал в библиотеках и архивах (Университет приучил). Будущая Звезда, прочитав пьесу Ковригина о Марине Мнишек, зафыркала — кому нужна теперь гордая полячка, а влюбленного в неё автора объявила бездарью. Крах, конфуз и печальный конец драматургических опусов. Марина же Мнишек, в пьесе будто бы осветленная, тогда, естественно, опять совместилась в сознании Ковригина с силами, удач не приносящими… Кстати, совсем недавно Звезда "в своих возрастах" сыграла Марину Мнишек в прошумевшей постановке "Бориса Годунова" и, как писали, замечательно и страстно сыграла (что-что, а страсти она всегда играла умело). Но сыграла Марину, придуманную Александром Сергеевичем (гениально снабженная Мусоргским звуком меццо-сопрано, Марина и вовсе превратилась у Фонтана в Самборе в способную растерзать чужую страну светскую тигрицу). На самом же деле в Самборе (Ковригина заносило и в Самбор) Марина была пятнадцатилетняя девчонка, выросшая в европейских комфортах романтическая панночка, не ведавшая о том, что в интригах отца она разменный грош и, уж конечно, не представлявшая, что такое Московия с её снегами и грязями. Ныне Звезде тридцать пять, и сцене у Фонтана она стала соответствовать…
Самому же Ковригину захотелось сейчас отыскать свое простодушное и неуклюжее творение с диалогами и материалы, собранные им о Марине Мнишек в ту пору. Если они, конечно, сохранились в его московских бумагах.
Что же касается царевны Софьи, то ею Ковригин всерьёз не интересовался.
Материалов о Софье в коробке Дувакина было поменьше "Маринкиных". Да иные из них свидетельствовали и не о ней, а о её старшем брате Федоре Алексеевиче, самодержце всея Великие и Малые и Белые России, володевшим страной шесть лет и умершим двадцатиоднолетним, скорее всего от отравы. Прежде о нем было в ходу мнение как о больном и хилом царе. Теперь же его всё чаше называли человеком "тонкого ума" и реформатором, царствование же его — "потаённым". "Потаённым", надо считать, с помощью усердий учёных людей, возвеличивавших лишь деяния Петра Великого.
Было время: и из-за упрощений, и из-за угоды социальному заказу (или социальной моде?) незыблемым бронзовело представление, из какого исходило: всё у нас началось с Петра. Деяния Петра и впрямь великие, но услужливо-охочие популяризаторы часто "для наглядности" выделяли в них эффекты чуть ли не кинематографические. Или так. И в кино выходило, что Петр Алексеевич вздымал Россию на дыбы с помощью эффектов (опять же школьные впечатления отрока Ковригина). Вот старая Россия. Сплошные бороды. Над бородами — полусонные рожи дураков и лентяев. Под бородами — изношенные зипуны или исподние рубахи. Руки, опять же в волосах, чешут грудь — наверняка искусанную насекомыми. Вот Пётр стрижет бороды. Вот вся Россия побрита. Вот на облегченные головы натянуты парики, и глаза под ними поумнели, стали живыми, в них — желание нечто этакое полезное предпринять. Или сплясать на ассамблеях. Башки стрельцам поотрублены, и в сражения идут бравые преображенцы и семеновцы. Впрочем, повсюду остались злыдни и ретрограды, эти ждут не дождутся поворота к старому. И повсюду — классовая борьба. При ней и бандит Разин превращался в героя-освободителя. Ну, и так далее.
Несколько лет назад Ковригина попросили написать о музыке допетровских времен. Было ли что-либо в ту пору, кроме гуслей, дудок, сопелок, домр, рожков, хорового пения? Ковригин и так знал, что "это кроме" было. Однако подробности музыкальных увлечений просвещенных московских особ семнадцатого столетия Ковригина удивили. К тому времени музей Глинки из палат Троекурова в Охотном ряду, запертых чиновничьим забором с милицейскими будками (теперь это забор Думы), был вытеснен на тверские-ямские, там к архивным изысканиям Ковригин был допущен. Хороши по информации оказались первые тома "Истории русской музыки" со статьями Ю. В. Келдыша. Интересные попадались Ковригину и публикации. В частности, исследование В. Протопопова "Нотная библиотека царя Федора Алексеевича". "Список" с неё, кстати, был прислан теперь и Дувакиным. Брат Петра был ещё и композитором. А в московских каменных палатах имелись доставленные от известных мастеров инструменты, собраниями которых не обладали и богатые меломаны в Лондоне или в Берлине. Не только имелись, но, понятно, и звучали. И не носили хозяева палат, важные деятели государства, бород, а были в курсе моднейших европейских новинок. В их числе и князь Василий Васильевич Голицын, первейший друг и советник царевны Софьи, оценить чью натуру и был призван теперь Ковригин.
Почитаем, почитаем, обещал себе Ковригин, и про Софью, и про Федора Алексеевича. И про Алексея Михайловича, о котором в школе Ковригину было втемяшено, что при нём во мраке российской жизни главным образом происходили бунты, то Соляной, то Медный, то всенародно-освободительный Стеньки Разина. Бунташный, мракобесный век… На самом же деле Россия тем временем деятельно и разумно подбиралась, пусть и не спеша, к решительному закреплению перемен в ней Петром Великим. Слова "почитаем" относились опять же к посылке Дувакина. Больше всего в ней было работ современного историка Андрея Богданова, среди них и книга — "В тени великого Петра". Пролистав их, Ковригин понял, что о Софье ему придется добывать знания в Москве. Странным образом Ковригин чувствовал себя виноватым перед Софьей и её временем. Года четыре назад при разборке жилого здания в Староваганьковском переулке возле Румянцевского дома были открыты палаты семнадцатого века, по убеждению историков, принадлежавшие Шакловитому, одному из близких Софье людей (в трагической ситуации она его предала, или хотя бы — "сдала"). Сохранить палаты было нелегко, началась тяжба, Ковригин загорелся, намерен был лезть со знаменем на баррикады (полотно Делакруа!), но, как это случалось с ним не раз, остыл, увлекся другим занятием ("и без меня защитников хватит!"), а потом услышал, что палаты Шакловитого снесли. Софья же наверняка бывала в них. Не исключено, что пробиралась туда из Кремля при свете факела подземным ходом. Как пробиралась на свидания и в палаты Василия Голицына в Охотном ряду (теперь на их месте — опять же Дума, вот ведь игры времен!)…
Сопротивление просьбам и уловкам Дувакина ворчало в Ковригине. Но он понимал, что ходит уже кругами вблизи дувакинской блесны. Произошедшее давно становилось необходимым Ковригину сейчас. Прошлого нет и нет будущего, полагал Ковригин. Они слиты в "сейчас". Есть только "сейчас". И есть волшебное свойство человека оживлять душой исчезнувших давно людей и вступать в их жизнь. Нужда в этом всегда жила в Ковригине. Так было и в прежних случаях (с Колумбом, например, с Монтесумой и Кортесом в одном американском сюжете), а теперь — и с Рубенсом, Ковригину требовалось воображением чуть ли не поселяться в натурах своих персонажей, в их телах и даже в их костюмах. Это волновало его и доставляло ему, пожалуй, будто бы физическое удовольствие ("Типа того", — сказала бы Лоренца). Ради понимания Марины Мнишек и царевны Софьи следовало "оживить" и их. Хотя, понятно, что и мыслями очутиться в их телах вышло бы для Ковригина делом затруднительным. Но побыть вблизи них, отгадывая их чувства, мотивы их действий, физиологические особенности их натур, для Ковригина становилось теперь занятием-состоянием обязательным, это занятие уже увлекало его, вот он — да, он! — стараясь быть незамеченным и не услышанным, озираясь, кирпичным, обложенным белым камнем, ходом, передвигался сначала под Неглинкой, потом под мшистыми берегами её, а метрах в пятидесяти впереди при колеблющемся свете факела шла властная женщина, спешила из кремлевских покоев к кому-то из близких мужчин своих — Голицыну или Шакловитому, страсть и государственные дела гнали её…