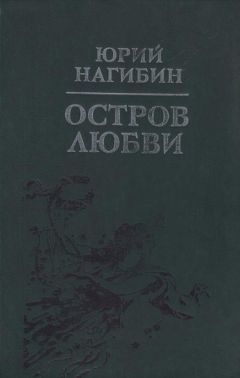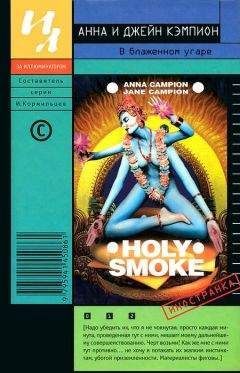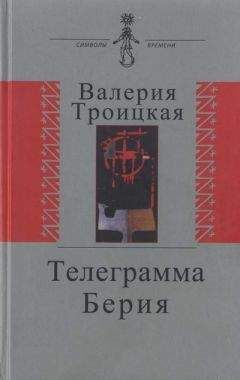— Как хорошо в поле-то! — сказала она Акулине.
— Одевайся потепше, — заботливо посоветовала та. — Не ровен час опять свалишься, Кирьяк мне голову скусит.
Бабушка частенько подчеркивала и свою особую ответственность за Феодосию, и попечение атамана Кирьяка. Феодосия холодела, догадываясь о смысле этих намеков, но сейчас в ней проснулась злость. «И хорошо бы скусил!» — «Так-то ты меня благодаришь? — слезливо завела старуха. — Я ли тебя не выхаживала, ночей не спала!..» — «Тоже мне благодетельница!.. И не лезь ты со своим Кирьяком». — «Это почему же? Он мужик правильный, справедливый…» — «Лыцарь с большой дороги», — перебила Феодосия. «Не шути так, деушка, Кирьяк добрый, добрый, а осерчает — беда». — «Вот то-то и оно! И хватит меня девушкой звать, сколько раз говорила. Я мужняя Жена». Акулина отвернулась, проворчав что-то скверное, Феодосии послышалось: «Кирьяк тебя живо от брачных уз ослобонит».
Теперь она каждый день совершала все более дальние прогулки, приучая себя к долгой, быстрой ходьбе. И когда бабушка Акулина как-то отлучилась со двора, Феодосия сунула под ту шматок сала, ржаную лепешку и припустила по знакомой дороге.
Версты через две или чуть поболее дорога свернула в лес, что было на руку Феодосии, теперь ее не углядеть из деревни. Дорога не была ни наезженной, ни нахоженной, и все же сквозь гривку весенней травы отчетливо проступали тележные колеи, значит, дорога куда-то вела, ею пользовались. Феодосия вспомнила про разбойников: что, если она столкнется с возвращающейся шайкой? Но как ни бесшумно передвигаются лесные люди, у них подводы, лошади, всякое снаряжение, она услышит их загодя и юркнет в чащу. Лес был тих и спокоен, и бдительные его стражи-сойки нежили под солнцем свое яркое оперение. Перепархивали с сухим стрекозьим шорохом мелкие птички, дятел ожесточенно долбил березу, взбалтывая свой бедный мозг в маленькой красной голове, грустно и редко, будто не доверяя самой себе, куковала кукушка. Феодосия не отважилась спросить кукушку, сколько лет ей осталось жить, голос птицы был затухающе слаб, а ей надо было жить долго-долго, чтобы наверстать все потерянные для любви годы со своим единственным.
Чем дальше углублялась она в густеющий лес, тем становилось жарче и душнее. Но из-под старых деревьев, приютивших густую тень, наддавало сыроватой прохладой. Кисленько пахли ландыши. Обок с дорогой желтели одуванчики и синели стройные живучки. Феодосии захотелось сплести венок, даже кончики пальцев защекотало, так не терпелось им коснуться тонких тел цветов. Она едва одолела искушение: надо засветло добраться до какой-нибудь деревни, ночевать в лесу страшно и холодно, опять лихоманка скрутит. Дорога уверенно тянула через лес, порой огибая какую-то мокрую балку или овражек, курящийся белым черемуховым дымом, и вышла к неглубокому, довольно широкому ручью в низких, поросших лезвистой травой берегах. Феодосия поглядела за ручей на толстые бурые мхи, сквозь которые пробивались хвощи, и не увидела дороги. Поразмыслив и погадав, она пошла влево вдоль воды и вскоре обнаружила дорогу, петляющую по берегу и постепенно отклоняющуюся от ручья. Феодосия озадачилась — дорога вроде бы поворачивалась вспять. Да нет, тут нарочно понапутано, чтобы сбить с толка чужака, по злому умыслу, а хоть бы и ненароком забредшего в заповедный край лесной вольницы.
Она пошла по четко обозначившимся колеям и уже в сумерках, натерпевшись страха, оказалась на краю поляны, прямо против деревни, странно тихой и безлюдной, вроде бы брошенной. А хоть бы и так! Она переночует в первом попавшемся доме, а утром пойдет дальше. Тут она увидела у крыльца крайней избы старушечью фигуру. Феодосия поспешила туда, и противная слабость в коленях чуть не повергла ее наземь.
— Набегалась? — ворчливо сказала бабушка Акулина. — Иди вечерять-то, второй раз самовар грею.
Теперь Феодосия поняла, почему ее не стерегут и позволяют ходить где заблагорассудится. И все-таки дорога, настоящая дорога, которая выводит из этой западни, где-то должна быть. Ведь не по воздуху уходила и возвращалась шайка, да и прежние насельники деревни как-то сообщались с миром. Может, надо было пойти по ручью в другую сторону или перейти его вброд и там, на толстом мшанике, отыскать вмятины от тележных колес. Все дороги куда-то ведут, значит, и эта дорога, как бы ни запутывали ее ленту боящиеся преследования люди, имеет настоящее направление, надо только суметь распутать узлы. Сразу ничего не дается, но сегодня она стала чуть ближе к избавлению. А главное, ей нечего таиться, Акулина настолько уверена, что отсюда не уйти, что предоставляет ей полную свободу.
И на другой день Феодосия на глазах Акулины снова пустилась в путь. Все было по-вчерашнему: сойки, дятел, мелкие пичужки, кукушки, только одуванчики успели превратиться в пушистые шары. Достигнув ручья, она пошла в другом направлении, продираясь сквозь таволгу и цветущую крапиву. Шла она долго, острекалась, устала и хотела уже повернуть назад и тут увидела на другом берегу ручья, на песчаном зализе полнящиеся водой колесные следы. Разувшись, она перебралась на тот берег по обжигающе студеной воде, растерла замлевшие ноги, натянула сапожки, но сажен через пятьдесят пришлось опять разуваться — перед ней снова оказалась вода. Был ли это тот же ручей, петляющий заячьей цепочкой, или другой — понять нельзя. Дальше дорога пошла сухой, прямой, как стрела просекой, по которой во всю длину простерся солнечный луч. В его перехвате тусклое оперение сновавших над просекой дроздов загоралось фазаньими красками, и как будто лопались серебристые шарики, это вспыхивала в луче светлая роговица летучих жучков. И Феодосию объял этот луч, она поплыла по его клубящемуся лесной пыльцой сиянию и приплыла прямо на зады деревни. У плетня поджидала бабушка Акулина.
— Набегалась? — добродушно спросила старушка. — А я тебе кулеш молочный сварила.
Не кричать, не плакать, не валиться наземь, внушала себе Феодосия. Я стала еще ближе к Василию, ближе на эту проклятую обманную дорогу, которой мне все равно было не миновать, И может, их тут много, таких дорог, но одна все-таки окажется настоящей и выведет меня на волю. Завтра я опять пойду… Но завтра у нее не оказалось, ночью явился человек от Кирьяка и велел всем уходить в лес. Приближался карательный отряд.
Как ни ослабила смерть Петра государственный аппарат, пущенные им колеса все-таки вертелись, и власть себя охраняла. Бессильная во всем другом, она не вовсе разучилась преследовать и карать. Уходящие лесом разбойничьи женки, а равно и Феодосия с Акулиной видели в разрывах чащи черный недвижимый дым, шапкой накрывший спаленную карателями деревеньку.
10
Началась лесная жизнь, в шалашах и землянках. Разбойники пробавлялись легким, неопасным делом: обирали астраханских мародеров. Чума продолжала свирепствовать, уничтожая целые семьи, и опустевшие дома подвергались разграблению как местными, так и пришлыми людьми, которые в надежде на поживу отважно проникали в зараженный город и уходили с немалой добычей. Им никто не препятствовал, власти давно покинули Астрахань.
«Небось и мой дом разграбили, — без всякого сожаления думала Феодосия. — Да что там осталось: ложки, поварешки, постели, кое-какая одежда». Странно, ей на ум не приходило что чума могла лишить ее не только имущества, но и близких людей, родного батюшки. Нет, в ее сознании все они оставались целы и невредимы. Ей не хотелось обременять душу никакой лишней заботой, никакой тревогой и болью, отвлекающей от мыслей о муже, с которым она должна соединиться. В роковой недосягаемости Василия Кирилловича ее любовь к нему не то чтобы усилилась, сильнее нельзя любить, но обрела черты восторженного поклонения. Даже бегство его вызывало восхищение. Он бежал не из корысти и выгоды, а себе во вред и тягость, единственно ради знания. Кто еще на это способен? Все лишь о хлебе насущном думают, о богатстве и всякой земной сладости. Он необыкновенный, великий человек, недаром же остановил на нем взгляд царь Петр.
Она думала о занятиях Василия Кирилловича и жалела, что не вникла в них глубже. Почему он был пристрастен к рифмованным строчкам, которые складывались в песню, но песней не были? Он называл их стихами. А зачем говорить в рифму да еще нараспев, коли ты не собираешься ни петь, ни причитать, ни славословить царя небесного или земного человека? Простой речью, какой в разговоре пользуются, можно все проще и ясней выразить. Она не понимала этого и мучилась. Однажды, тоскуя свыше мочи о Василии Кирилловиче, утирая набегающие на глаза слезы и томя себя невыносимыми мыслями о худобе, скудости одинокой жизни мужа близ московской науки, Феодосия проговорила вслух такое, чего и внутри у нее не было, словно вычитала начертанное в воздухе:
Уж я встречусь с тобой, милый, родненький,
Накормлю тебя сладко, сдобненько.
Напитаю твою плоть нищую
Самой вкусной и сытной пищею.
Ей стало чудно, радостно и чего-то стыдно, и она вычитала в дрожащей пустоте лесного воздуха другие, лишь ей зримые письмена: