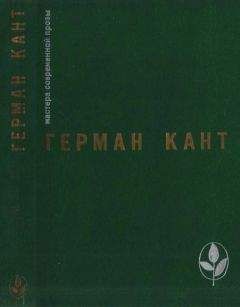— Здравствуйте, — ответила она и вышла.
Роберт без особого рвения принялся за работу.
— Подвернется случай — принесу вам розетку, — пообещал он, — при свете этой коптилки на потолке учиться немыслимо.
Случай подвернулся назавтра. Роберт пришел к ним после уроков.
— Здравствуйте, фрейлейн пастор, — сказал он, — а где же остальные цыплята, вернее, где же цыплята, вы уже, надо думать, не цыпленок.
На ней снова была пожарная юбка, и Роберта зло взяло, хоть он и сам удивлялся, какое ему до этого дело.
Она собрала свои книги, но он предупредил:
— Из-за меня вам уходить не обязательно. Я работаю тихо. Или, может, вам стихи учить надо?
Она неуверенно села и продолжала колдовать линейкой и циркулем.
Роберт подсоединил провод к выключателю, выгреб из кармана розетку и скобки, но, прежде чем приколачивать, сказал:
— Извините, я, кажется, пообещал невозможное. Придется немножко постучать, но потом опять буду паинькой, постараюсь поскорее все сделать.
Она отложила циркуль, скрестила руки на груди и стала наблюдать за его работой.
— Ну вот, — сказал он, — готово, можете снова чертить. Впрочем, один вопрос: почему это вы в школу ходите? Не могу себе представить, чтобы вы столько раз засыпались…
— Засыпалась?
— Ну, проваливались, оставались на второй год. Не могу даже подумать о вас такое.
— Большое спасибо! Нет, я два года не ходила в школу: пришлось работать у крестьянина по хозяйству, мы у него и живем теперь.
Роберт отложил инструменты в сторону и подсел к ее столу.
— Перекур… Так почему же это, позвольте узнать? Не хватает пасторского жалованья или они вообще не получают жалованья?
— Мой отец умер.
— Мой тоже. Погиб?
Девушка посмотрела на Роберта долгим взглядом и сердито сказала:
— Можно и так сказать, господин электротехник, хотя кое-кто говорит, что нет. Но я говорю — погиб. Он был проповедником в соборе в Кёнигсберге. Когда пришли русские, он встал в дверях, не пускал их через порог. Тогда они выстрелили. Стало быть, он погиб. Вот так, господин электротехник!
— Черт побери, — буркнул Роберт и принялся за работу.
Когда он прощался, девушка едва ответила.
Вечером он спросил об Инге у мужа своей матери. Нусбанк махнул рукой и завел свою обычную канитель, чем так отравлял Роберту жизнь в семье.
Дело совсем никудышное, сказал Нусбанк, загубленное с самого начала; если бы он, Нусбанк, раньше здесь работал, этого бы не случилось, но в то время он, как известно, занимался земельной реформой, вот тут-то все и случилось. Всегда так, если сам обо всем не позаботишься. Нет, девушку нельзя было пускать в школу. Допущена большая психологическая ошибка, Инга много старше остальных и чувствует себя несчастной. Хорошая профессия — вот что ей нужно. В двадцать лет ходить в школу — ну не глупость ли! А еще история с папашей. Он, Нусбанк, понятно, выяснил обстоятельства дела. Нацистом пастор не был, зато церковный фанатик — из тех, что еще в живого дьявола верят. В лагере Нусбанк знавал таких, но те видели Вельзевула в коричневорубашечниках, что, по сути, верно, хоть в жизни это им не очень помогало. Так вот, проповедник Бьеррелунд — кстати, шведская фамилия, предок попал сюда, верно, как полковой священник Карла Двенадцатого, а Померания, кажется, была когда-то шведской, она недалеко ведь от Восточной Пруссии, и семья его, может, оттуда, да что нам до его предков, — во всяком случае, Бьеррелунд умер хоть и не естественной смертью, но вполне объяснимой. Взрослый человек, а так поступил! Дочь теперь носится со своим несчастьем и в каждом советском солдате видит его виновника. К ней нужно проявлять чуткость, иначе пропадет девица. А мамаша ее, госпожа проповедница, — настоящий медный лоб, сидит в каморке у крестьянина и заставляет девчонку гнуть спину. Внушила ей, что ждать им недолго — смерть пастора, мол, будет отомщена. В этом смысле психологически верно, что девчонку у нее забрали и устроили в школу.
На другой день Роберт собрал из старых настольных ламп одну почти совсем новую и отнес в интернат.
— Розетка без лампы, — сказал он, — нечто платоническое. Мне такое не по душе.
— Сразу видно, — сказала девочка, которую все называли Плюшка.
— Только не надейтесь понапрасну, — пробормотал Роберт.
Все девушки, кроме Инги, вскоре приручились и даже стали по-человечески разговаривать. Им бы очень хотелось сходить в цирк, поделились они с ним; они пытались уговорить Ингу, но она ответила, что в цирк ходить глупо, она не может убивать вечер на глупости.
Роберт заявил, что называть цирк глупостью — это и есть глупость, цирк — чудесное развлечение, и, если бы не работа, он обязательно пошел бы с ними.
— А вы сходите вечером, — посоветовала Плюшка, — и прихватите Ингу.
Инга сердито сверкнула глазами на девочку, а Роберт почувствовал, что краснеет, и поторопился уйти.
В этот вечер он не пошел с Ингой в цирк, зато на следующий решился. Дождавшись, когда она вернется из школы, он сказал ей:
— Вполне можете пойти со мной. Никто ничего не подумает, да и подумать-то нечего. Там есть обезьянки, ведь вы тоже любите обезьянок, правда? Или нет?
— Люблю, — ответила Инга, — обезьянок я люблю.
Но он чуть все не испортил. Места их были возле самой решетки, отделяющей зрителей от хищников. Когда белых медведей погнали на манеж, один остановился и, сунув морду между прутьями, обнюхал Ингину ногу. Она испугалась, и Роберт поменялся с ней местами.
— Видимо, медведю захотелось получше разглядеть пожарную юбку, — усмехнулся он.
И тотчас понял, что совершил ошибку — девушка словно окаменела и за представлением следила уже без всякого интереса.
В антракте Роберт попытался загладить промах.
— Надо вам сказать, — пробормотал он, — что не мастак я обходиться с девушками, а главное — привык в лагере черт-те что болтать, вот и срывается с языка, что ни подумаю. Ну, не сердитесь, пожалуйста, это ведь цирк!
Она чуть улыбнулась, потому что слово «цирк» он произнес как заклинание, и спросила:
— Вы были в плену?
Он кивнул и рассказал немного о себе; с этой минуты она начала по-другому к нему относиться, разговорилась, стала общительней, доверчивей.
И только много позже Роберт понял, что ее симпатия основана на недоразумении: она считала его пострадавшим, такой же жертвой, как она и ее отец.
Роберт, сев в постели, спросил Трулезанда:
— Спишь?
— Боже упаси, пытаюсь догадаться, какой системы придерживается барабанщик. Какой-то загадочной, но, может, в этом и весь трюк? А ты заснул?
— Нет, задумался.
— О девушке?
— О девушке? Вот уж нет, просто вспомнил еще одну историю о собаке, ведь отец был помешан на собаках. В газете мы как-то прочли: «Продается сторожевая собака, доберман, чистокровный». Мы с отцом поехали. Дело было летом, шагать пришлось далеко да все по солнцу. Хутор лежал в стороне от дороги, мы подошли, а за забором тишина, ни человека, ни собаки не видно. «Хозяева, верно, сено косят, — решил отец, — а добермана с собой прихватили. Может, бабуся дома, скажет, где их искать». Зашли мы во двор, но и там ни души, только собака лежит на солнышке, дремлет. Что там дремлет — храпит, да еще как! «Ну-ну, — сказал отец, — под сторожевой собакой я понимал нечто иное, но, может, они ее перекормили, да еще жара». Мы подкрались к псу, как индейцы, с подветренной стороны. Отец с опаской ткнул добермана палкой раз, другой, третий, только тогда собачка наконец поднялась да так зевнула, что я чуть с копыт не свалился. Тут захотелось ей поиграть отцовской палкой, но она быстро из сил выбилась и, повалившись на другой бок, снова захрапела. Отец прицепил ей к ошейнику записку: «А вашего сторожевого пса пустите лучше на колбасу». Мы потом часто вспоминали собачку.
— Ты любишь отца?
— Любил.
— Ах, да… Сказать тебе что-то? Страх меня берет.
Роберт пошарил в кармане, достал сигарету и, закурив, ответил:
— Не хнычь, меня тоже.
Трулезанд сел, поджав ноги, на постели и закутался в свой широченный дождевик, а Роберту припомнилась детская песенка: «Гномик из лесу пришел в плащике пурпуровом».
Он попытался пропеть ее мысленно в ритме Бобби Неймана, да ничего не вышло. Тогда он спросил:
— Ты в школе хорошо учился?
— Если говорить честно, — ответил Трулезанд, — то кое-как. Середка на половинку. Мне все равно было. Сознательности не хватало, сам понимаешь. Теперь дело другое. Теперь придется вкалывать. А то вернусь домой, спросят меня: «Ну, как учишься?» — что ж мне отвечать: середка на половинку? У них я ведь был не середнячком, а передовиком. Им и невдомек, чего здесь только не требуют — химию там и все такое…
Страх перед будущим заставил их проговорить до утра, и потом им еще не раз бывало страшно, особенно Трулезанду. Ему, правда, ученье давалось легче, чем многим другим, но мешало жить беспокойство — как бы не опозорить свой цех и самому перед ним не опозориться. Под цехом он разумел вообще всех плотников. Он всегда был готов схватиться с каменщиками и слесарями и постоянно обсуждал вопрос, чья профессия важнее не только для строительства домов, но и вообще для развития человеческого общества. Трулезанд не стесняясь приводил в качестве аргумента даже тот факт, что Иисус из Назарета был сыном плотника, и если в целом евангелие с научной точки зрения не выдерживает никакой критики — «встань, возьми постель твою и ходи» и тому подобная чепуха, — то все, что касается плотника Иосифа, не лишено смысла.